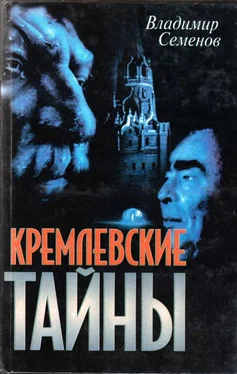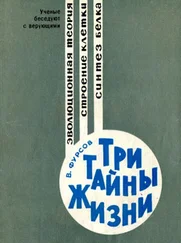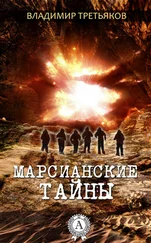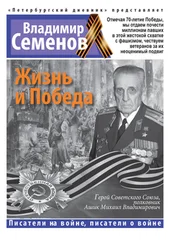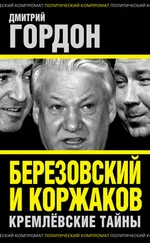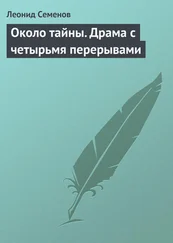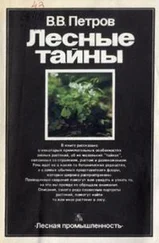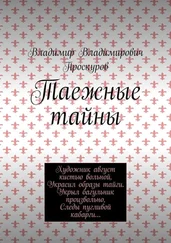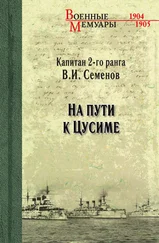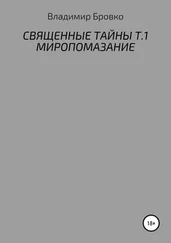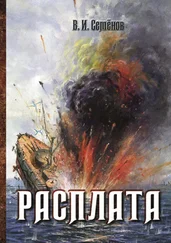Предполагая, что таинственный ход, которым шел дьяк Василий Макарьев, а после него пытался пройти пономарь Конон Осипов, находится в фундаменте кремлевской стены. Князь Щербатов в двух местах обнажил ее до основания, но и там не нашел прохода в тайник. Внутри зубцов этой стены зияли подозрительные отверстия — «продухи». «Не для вентиляции ли тайника они устроены?» — всполошились исследователи. Однако оказалось, что их пробили для просушки стен.
Последней была тщательно осмотрена круглая Арсенальная башня, построенная в XVI веке прибывшим в Москву из Италии искусным зодчим Пьетро Антонио Солари. В первом ее надземном этаже нашли замурованную дверь, возможно, служившую когда-нибудь выходом из тайника. За ней действительно оказался ход, круто уходивший вниз на глубину восьми аршин и разветвлявшийся в двух направлениях. Едва сделав по этому ходу несколько шагов, рабочие наткнулись на серьезное препятствие — огромный белокаменный столб, по-видимому, часть фундамента кремлевской арсенала, построенного в начале XVIII века. Такой же столб мешал продвижению и по второму проходу, уходившему вправо.
На этом раскопки прекратились. Ломать столбы князь Щербатов не стал, надеясь потом перехватить тайник за пределами арсенала. Но отпущенные на раскопки средства иссякли, и осуществление этого плана было отложено на неопределенный срок.
Исследованиями подземельев занялся Игнатий Стеллецкий — археолог и пещеровод.
Сын великого псаломщика Игнатий Стеллецкий в награду за прилежание был принят в киевскую духовную академию, славившуюся в конце прошлого века своими историками. Они разбудили в способном юноше острый интерес к прошлому. Окончив духовную академию, Стеллецкий священиком не стал. После поездки в Палестину он твердо выбрал профессию археолога.
Стеллецкому пришлось снова сесть на студенческую скамью и закончить еще одно высшее учебное заведение — только что открывшийся в Москве археологический институт. Захламленные, дышавшие сыростью и часто кишевшие крысами подвалы старинных московских домов и монастырей интересовали его больше, чем самые живописные наземные архитектурные памятники. Нет ли под ними какого-нибудь замурованного тайника или подземного хода? Как врач, прежде всего прослушивающий сердце больного, пещеровод-любитель начинал обычно свои обследования с простукивания стен и пола подземелья. Почти под каждым старым московским домом, построенным не меньше чем полтораста-двести лет тому назад, утверждал Стеллецкий, есть какие-нибудь таинственные сооружения, подземные палаты и ходы, проложенные на случай непредвиденных событий. Такие ходы были ныне снесенными башнями Китайгородской стены, например под Варшавской, а также и под Сухаревской, под фундаментами зданий, принадлежащих когда-то наперснику Ивана Грозного свирепому Малюте Скуратову и князю Пожарскому. Они тянулись под старой Голицынской больницей и вблизи Новодевичьего и Симонова монастырей. По предположению Стеллецкого, ходы, например, должны были соединять дома некоторых живших в Кремле царских приближенных, например, князей Черкасских и Трубецких, и царских родичей — бояр Морозовых и Милославских — с их городскими владениями. На это, между прочим, указывала запись летописца, будто слишком глубоко запустивший руку в казну царский свояк, знаменитый боярин Борис Иванович Морозов, в 1648 году только потому спасся от народной расправы, что успел по тайному ходу ускользнуть в Кремль.
Тщательно выискивая в древних делописях и рукописях сведения о всякого рода подземельях и тайных ходах, что итальянский архитектор Пьетро Антонио Со-лари построил в Москве «две отводные стрельницы, или тайники и многие палаты и пути к оным с перемычками по подземелью. На основаниях каменных водные течи, аки реки, текущие через весь Кремль-град осадного ради сидения».
Ознакомившись в обширной литературой о якобы спрятанной в одном из подземелий Кремля библиотеке Ивана Грозного, в том числе и с опровергавшим это предположение фундаментальным исследованием Белокурова, энтузиаст-«подземник» встал, конечно, на сторону его противников.
Разрешить вопрос окончательно! — вот какую задачу поставил перед собой начинающий археолог и стал искать доводы для обоснования необходимости возобновления поисков знаменитой галереи Ивана Грозного. Стеллецкий высказал мнение, что правильней было бы назвать ее библиотекой византийских императоров или греческой принцессы Зои, более известной в России под именем Софьи Палеолог.
Читать дальше