Рассказ Наундорфа о последовавших событиях в отличие от всего предшествующего легко поддается проверке. Из Берлина он перебрался в Шпандау, потом в Кроссен, был (разумеется, ложно, по его уверениям) обвинен в фальшивомонетничестве и тогда открыто объявил о своем подлинном имени. Рассказ Наундорфа заполнен ссылками на анонимных «покровителей» и «преследователей», мотивы действий которых не поддаются разумному истолкованию, а все повествование составлено так, что не допускает возможности никакой проверки. Нередко явно для достижения такого результата Наундорф заявлял, что в том или ином случае опускал ряд подробностей и эпизодов, поскольку, мол, это необходимо из каких-то только ему известных соображений предосторожности. Рассказ этот вдобавок, как справедливо напоминал М. Гарсон, повествует о времени, когда во Франции, Австрии и Пруссии, где происходили эти таинственные и не оставившие ни малейших следов в документах аресты, преследования, бегства, существовали четко действовавшая полиция и судебная система. М. Гарсон назвал рассказ Наундорфа «попросту смешным романом». Краткий пересказ этих мемуаров не способен передать их характер, по словам А. Кастело, «колеблющийся между абсурдным и невозможным».
Напротив, А. Луиго, отвергая некоторые несуразицы мемуаров, готов видеть доказательства правдивости рассказа Наундорфа в его… явной неправдоподобности, поскольку выдумать можно было бы нечто не столь невероятное. Однако, сколь ни кажутся вымышленными отдельные эпизоды, они свидетельствуют, что Наундорф продолжал все это время находиться под наблюдением каких-то закулисных политических сил. Сторонники Наундорфа ссылаются на важные показания, приписываемые целому ряду лиц, причем показания, будто бы зафиксированные письменно, но все соответствующие бумаги неизменно оказываются исчезнувшими. Читателю предлагают основываться на пересказах из третьих рук, причем отделенных полувековым, а то и вековым промежутком от самих свидетельств. А. Луиго, опять возведя нужду в добродетель, предлагает видеть в этом существование таинственной руки, из «государственных интересов» систематически уничтожавшей «опасные» документы. Как уже отмечалось, Луиго хотел бы видеть доказательство правдивости Наундорфа из материалов, которые обнаруживаются при изучении «швейцарского следа».
Можно было бы согласиться с Луиго, если не вспомнить, что все поездки Фридриха Лешота и Шеневьера нам известны лишь из рассказа племянницы Фридриха Марии, которая, по ее собственным словам, узнала о них маленькой девочкой из уст своей бабушки через почти 40 лет после описываемых событий, и что сама Мария Лешот впервые поведала об этом миру еще через полстолетия с лишним, уже в конце XIX в. Стоит ли добавлять, что в 1845 году — год смерти Наундорфа — его претензии и рассказанные им приключения были широко известны и вполне могли повлиять на «признание» бабушки, которой, кстати, было в то время уже 90 лет, своей внучке, которой было всего 11? Неясно также, что побуждало Марию Лешот молчать более чем полстолетия. Именно этих соображений, думается, достаточно, чтобы не следовать за рассказом Марии Лешот о дальнейшей судьбе Фридриха Лешота, который, видимо, с умыслом или без такового был написан для того, чтобы подкрепить утверждения Наундорфа.
Как мы упоминали, в рассказах Наундорфа о его приключениях немалое место занимает некий «охотник», «егерь Жан», который, как позднее выяснилось, носил фамилию Монморен. Это наводило на мысль, что речь, возможно, идет о каком-то родственнике королевского министра иностранных дел Монморена. Однако в 1929 году была сделана попытка другой идентификации личности «егеря Жана». Майор Казенав де ла Рош, наундорфист, в книге «Людовик XVII, или Заложник революции» на основе изучения архивов наполеоновской полиции утверждает, что «Монморен» — псевдоним Казимира Лесейньера, морского офицера. Вымышленную фамилию он использовал, подвизаясь в качестве агента «Корреспондас», крупной разведывательной организации, созданной английской разведкой в сотрудничестве с роялистами и действовавшей с 1792 года в течение целых полутора десятков лет.
Из официальной переписки о Лесейньере, в которой участвовали сам наполеоновский министр полиции Фуше, министр внутренних дел Шампаньи, генералы, префекты, видно, что он предпринимал неоднократные попытки как-то легализовать свое положение во Франции в годы Директории, Консульства и Империи, даже стремился занять место мэра города Сен-Валери, чрезвычайно важного пункта для переправки шпионских донесений и занятия контрабандой. Французские власти, в целом отлично осведомленные о роли Лесейньера в «Корреспонданс» и других подобных организациях, решительно пресекли его планы заделаться мэром и другие подобные прожекты, но от соблазна использовать опытного разведчика в качестве шпиона-двойника, видимо, не удержались, хотя и не строили на его счет никаких иллюзий. В качестве капитана корабля Лесейньер совершил в 1801 году путешествие на острова Карибского бассейна, в Вест-Индию, а не в Ост-Индию, как первоначально давал понять. На обратном пути его корабль был перехвачен англичанами, но потом отпущен. Вернувшись в Гавр, он на короткий срок посетил Швейцарию. Лесейньер стал, видимо, шпионом в пользу Англии, наблюдая за передвижением французских кораблей. В 1808 году Лесейньер исчез из Гавра, имея при себе необходимые документы на право поездки, но больше уже не возвращался. Майор Казенав, обследовавший место рождения разведчика, не обнаружил среди документов, отражающих акты гражданского состояния родственников Лесейньера, никакого свидетельства о его смерти.
Читать дальше
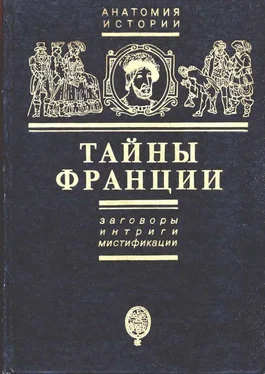

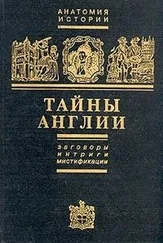

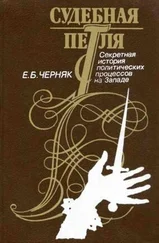
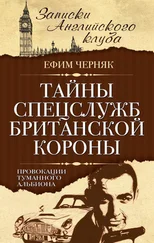
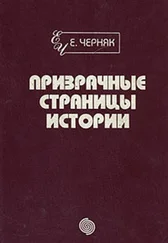
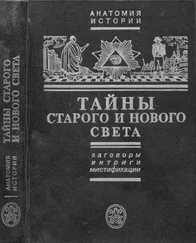
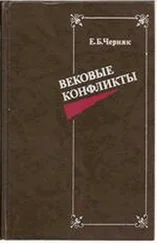
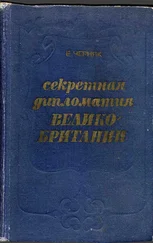
![Ефим Черняк - Невидимые империи [Тайные общества старого и нового времени на Западе]](/books/433461/efim-chernyak-nevidimye-imperii-tajnye-obchestva-sta-thumb.webp)