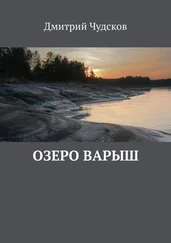Перед рассветом по стародавнему обычаю воины надели припасенное на этот случай чистое белье — знали, что предстоит бой не на жизнь, а на смерть. Летописец записал по этому поводу, что «…боа [18] Боа — воины, бойцы.
великого князя Александра исполншася духа ратнаго, бяху бо сердца их аки лвом».
Когда стало светать, Александр и его военачальники «поставиша полк на Чюдьском озере, на Узмени, у Воронен Камени», у берега нынешнего мыса Сиговец, неподалеку от широко известного уже тогда ориентира — Вороньего Камня. Интересно отметить, что и ливонский хронист, говоря о Ледовом побоище, назвал его «сражением на Узмени у Пейпус-озера», подчеркнув этим последним указанием, что оно произошло в той части Узмени, которая прилегает к современному Чудскому озеру.
В летописи нет указания, в каком боевом порядке встретило наступление врага русское войско. Можно предположить, что это было широкое по фронту многошереножное построение. В первых рядах находились воины, основным вооружением которых были длинные копья. После того как лучники до начала рукопашной схватки осыпали врага градом стрел, копейщики встречали его, выставив вперед копья, и принимали на себя тяжесть первого натиска. За ними стояли воины с боевыми топорами, мечами, засапожными ножами и другим оружием.
Русская конница, основу которой составляли дружины Александра и его брата Андрея, вероятнее всего, построилась за левым флангом боевого порядка пехоты, а может быть, и за прибрежными зарослями, не выдавая заранее врагу своего местонахождения.
Нет достоверных сведений и о том, где находился во время битвы Александр Ярославич. Далеко в этом отношении от действительности народное предание о том, что он управлял действиями своих полков, стоя на Вороньем Камне. Тот, кто знаком с боевой деятельностью молодого князя, а в 1242 году ему было всего 22 года, с его отвагой и быстрыми, неожиданными для врага действиями на поле сражения, может уверенно определить место, где он находился во время Ледового побоища.
Еще до начала битвы он и его ближайшие военачальники наблюдали за построением русского войска с опушки леса на берегу Узмени. Здесь застало Александра, конечно, и первое донесение конных разведчиков о том, что рыцарское войско выступило и спускается на лед Узмени.

Мыс Сиговец.
Время близилось к восходу солнца, когда на широком ледяном просторе Узмени показались ливонские рыцари.
«И наехаша на полк немци и чюдь, — сообщает нам дальше русская летопись, — и прошибошася свиньею сквозе полк». Это был успех, одержанный рыцарями в начале битвы. Слово «свиньею» следует понимать как компактный боевой порядок рыцарского войска, применявшийся им обычно против пехоты. «Было видно, — читаем мы и в ливонской хронике, — как знамена братьев (рыцарей) проникли в ряды русской пехоты».
Так началась битва.
Огромная пробивная способность тяжелой рыцарской кавалерии давала ей возможность прорвать боевой порядок пехоты. Прорыв сопровождался, как правило, замешательством в войске противника. После этого рыцари не теряли ни минуты. Они энергично развивали свой успех, не давая противнику возможности восстановить порядок, так что отступление обычно переходило в бегство. Тогда рыцарям и пехоте, набранной из местных племен, оставалось только преследовать и избивать бегущих.
Так было всегда…
Но не так получилось на этот раз. Глубоким волнением веет от слов русского летописца, когда он повествует о решающем этапе битвы. «И бысть ту сеча зла и велика немцем и чюди, и трус от копей ломление и звук от мечного сечения, якоже морю помръзшю двигнутися, и не бе видети леду, покрыло бо есть всю кровью».
В свою очередь, кратко сообщая о развернувшемся ожесточенном бое, ливонский хронист, как бы в оправдание последовавшего поражения рыцарского войска, дополняет русского летописца: «Все те, кто был в рыцарском войске, были полностью окружены».
И вот перед нашим взором отчетливо возникает самый напряженный этап битвы, когда в ожесточеннейшей кровавой схватке решался ее исход. Прорвав боевое построение русской пехоты, рыцарская тяжелая кавалерия оказалась перед лесистым, поросшим густым ивняком и запорошенным глубоким снегом берегом Узмени. Тут она вынуждена была приостановиться. Лес и глубокий снег не позволили ей развернуться для захода в тыл врагу. Эта небольшая остановка оказалась для рыцарей роковой, на них с флангов ударила русская пехота. Пехота, атакующая конный рыцарский строй! Это была полная неожиданность для врага. В момент уже одержанного успеха он ожидал чего угодно, но только не атаки пехоты. Ведь рыцари всегда относились к пехоте с пренебрежением и почти не считали ее за войско. Самое большее, на что, по их мнению, она была способна на поле сражения, — вспомогательные действия при развитии успеха, при преследовании, избиении побежденных и захвате пленных… И вдруг тут, на льду Узмени, произошло неслыханное. Пехота, в ряды которой они врубились, не только не побежала, а рванулась с флангов вперед и вступила в яростную рукопашную схватку. Неудивительно, что под этим натиском рыцари нарушили свое боевое построение. Отбиваясь от русских воинов, наседавших на них, они вынуждены были перейти от наступления к обороне.
Читать дальше
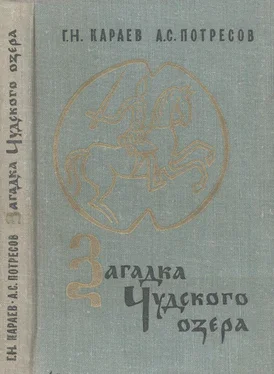


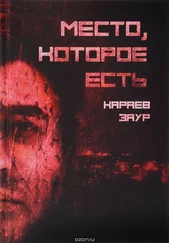
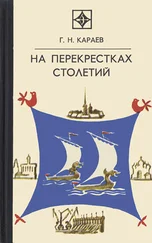


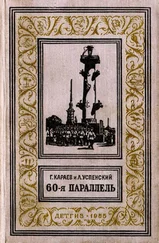
![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/391900/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere-thumb.webp)
![Георгий Реймерс - Загадка впадины Лао. Соната-фантазия [повести]](/books/395836/georgij-rejmers-zagadka-vpadiny-lao-sonata-thumb.webp)
![Георгий Караев - Путём Александра Невского [Повесть]](/books/398892/georgij-karaev-putem-aleksandra-nevskogo-povest-thumb.webp)