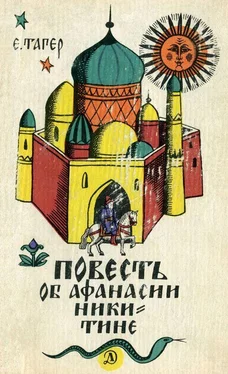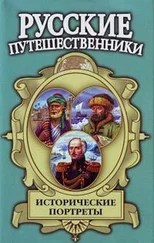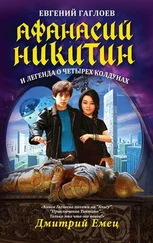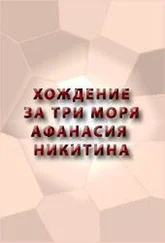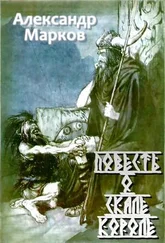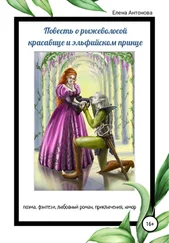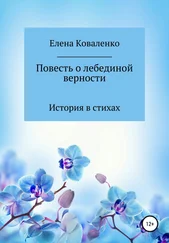— Милый гость, скажи нам твое имя! Кто ты, не боящийся обезьянского князя?
— Какого обезьянского князя? — недоумевал Афанасий.
— У обезьян есть свой князь, государь обезьян, — убежденно говорила девочка, — а у него свое войско. И если кто-нибудь обидит обезьянку, она жалуется своему князю — и он приходит с войском и жестоко наказывает обидчика.
— Вот не знал, — пробормотал гость, не то веря, не то не веря ее рассказу.
— Но если б ты и знал — все равно не побоялся бы! — вскричала девочка. — Все равно не побоялся бы и отнял бы у обезьяны моего воробушка — ты, самый смелый и неустрашимый из людей! Все-таки скажи нам свое имя, — она снова сменила свой детский лепет на взрослый, степенный и приветливый тон, — нужно, чтоб мы его знали. Это имя храброго, его не надо скрывать.
— Добрые люди! — мешая индийскую и персидскую речь, заговорил Афанасий. — Милые хозяева! Больше не буду таиться, скажу вам все. В этой стране меня зовут Ходжа Юсуф Хоросани, — это мое басурманское имя; а по правде — я родом русский, верою христианин, а по имени — Афанасий Никитин. Страна моя, Русь, лежит за горами, за лесами, за синими морями; путь оттуда далекий и трудный — о, трудный! Сколько горя, сколько мучений я принял на столь долгом и страшном пути!
— Расскажи! Все, все расскажи! — умоляла Камала.
— Доверься нам, усталый путник! — прозвенел, как певучая струна, нежный голос из-под желтого покрывала. И в лицо Афанасию заглянули сияющие звезды — доверчивые темные глаза под прямыми черными бровями.
Чандака негромко распорядился, и его дочери взяли из рук Афанасия медное блюдо с почетной медовой смесью, а вместо него принесли расписные чаши с вареным рисом, с морковью, с какими-то сладкими травами на ароматном масле. Гость насытился, отдохнул. Огонь очага угас, голубой лунный луч проник в хижину, травяные подстилки медово и пряно благоухали. Сам не зная как, Афанасий заговорил. Он рассказывал по-персидски, вставлял слова и целые обороты на арабском, татарском, узбекском, турецком, на всех знакомых ему восточных языках. Он вплетал в свой рассказ и слова на языках Индостана, а порой, не заметив того, переходил на русскую речь. Понимали его или нет, — он рассказывал и рассказывал. Ему казалось, что эти люди, даже не зная языка, слушают его сердцем, болеют его судьбой…
Вот повесть Афанасия — передаем ее так, как он хотел ее сообщить индийским друзьям: так, как она изложена в его заветной тетрадке.
«С самых малых лет устремился я душою на далекие хождения по краям незнаемым, неизведанным. Еще мальчишкою заслушивался, бывало, странников да паломников, что по святым местам хаживали; толкуют меж собою старые люди — и каких только чудес не наскажут! Кто говорит — есть-де земля, где люди живут с песьими головами; а кто — есть, мол, в дальней стороне птица-феникс, с девичьим лицом и с девичьим голосом — и только-де услышишь, как та птица поет, тут же все невзгоды свои позабудешь… И я, мальчишка, все слушаю притаившись и все слагаю в сердце своем; а сердце мое горит, как пожаром объято, горит ребячье кипучее сердце — и невмочь мне терпеть, до чего охота увидать воочию все чудеса земные…
А то — разговорятся меж собою разумные мужики, торговые гости, люди бывалые. Поведут беседу — кто с кем воюет и где за что, и в которой земле какой царь или султан нынче правит, и какие за рубежом есть города многолюдные, храмы златоверхие, пристани корабельные, народы нерусские… Так и мрет у меня душа! Зачем я не птица, почему у меня крыльев нету? Ох, слетал бы я в те края чужедальние, нагляделся бы, как там быстрые реки текут, как снежные горы стоят выше облака ходячего, как синеет океан-море глубокое. А то еще доведется порой: старые старицы, богомолки-странницы стих запоют да сказ поведут; да как помянут хоть слово про Индию чудесную, про ту ли про Индеюшку богатую, — у меня, у малого, дух спирает и сердце в груди замерло; жив быть не хочу, а хочу земную красу поглядеть, хочу ее всю запомнить, полюбить навеки. Таков я возрос.
Возрос, а своего желанья не бросил!
Пошел я по торговой части: как родители наши, так и мы. Работа привычная, с детских лет знакомая: счеты да подсчеты, да товары, да обозы, копейку на копейку клади — дело деньголюбивое, расчетливое дело, душа с него сохнет… А моя не усохла.
По торговым делам, по большим городам спознался я, сознакомился с гостями заморскими, со купцами иноземными. Ох, и любо же с ними потолковать, ох и полезно побеседовать! Про какой дальний край ни спроси, про какую землю ни заведи речь, — все расскажут умненько: куда путь держать, и в какую сторону ехать, и чего с собой на дорогу брать… А как запытаю про Индеюшку про богатую, — мои знакомцы и очи потупят: нет, мол, Афанасий, этого ты не спрашивай. Нашей братьи мало кто в Индии бывал, ничего толком не знаем; только слышно, что большие там чудеса и великие тайны… Молю, бывало: хоть намеком откройте! Что за чудеса, какие тайны? А ты, говорят, съезди сам, посмотри, после и нам расскажешь! До того, бывало, раззадорят — ни спать, ни есть не могу! Неужели, думаю, наш русский землепроход заморян этих ниже? Они хвастают, что весь свет обошли, а вот до Индии не добрались, ослабли. А наш брат? Неужель не дойдет?
Читать дальше