— Потом вы приходили к нам давать уроки. Шестнадцать дней были мы в Вене, и шестнадцать раз вы приходили, ни одного дня не пропустили. А потом как-то вскоре и в Коромпе нас навестили, а потом… — она немного поколебалась, — потом всех нас затмила Джульетта. А я только ходила каждый день к вашему дереву и спрашивала у него, что вы поделываете. Да еще советовалась с ним, как сыграть какое-нибудь трудное место в вашем сочинении. И, можете себе представить, оно ни разу не оставило меня без ответа!
В ее словах звучала грусть, и ему сделалось жаль ее.
— Я часто в мыслях возвращался сюда. Когда вы уезжали, я, к сожалению, не смог принести вам свою песню «Помню о тебе».
Она рассмеялась:
— О которой мы с Жозефиной часто гадали, кому она предназначена… Однако оставим в покое старые времена. Расскажите лучше, как теперь живете!
— Лучше не надо! За последние месяцы было мало веселого.
— Я знаю!
Это прозвучало просто, но за словами чувствовалось глубокое чувство.
«Что она, собственно, знает? — думал Бетховен. — Что я пишу грубую, невразумительную музыку? Что моя опера ни разу не сделала порядочного сбора? Что слушатели предлагали целый крейцер, только бы кончилась моя музыка?»
«Я знаю!» Сколько раз вспоминал он в последующие дни эти ее слова. Часто они гуляли вдвоем в парке Коромпы, и он не переставал удивляться перемене, происшедшей с Терезой. Она была, как прежде, остроумна и насмешлива, но ее взгляды на жизнь стали глубже. Ему казалось по временам, что стоит только произнести одно слово, как она уже знает, что будет сказано дальше. А достаточно сказать фразу, как она понимает всю глубину его мысли.
Почти каждый вечер в Коромпе завершался музицированием в тесном домашнем кругу. Изредка появлялся кто-нибудь из соседей, приехавший на коне. Частенько заглядывал духовник Брунсвиков — старец с волосами удивительно белыми и с глазами удивительно черными.
Бетховен играл, не дожидаясь просьб. Он чувствовал себя у Брунсвиков как дома. Никто не давал ему почувствовать неравенство их происхождения. На нравах старых университетских друзей они были на «ты» с Францем Брунсвиком. Его сестра была для Бетховена просто Терезой, без всяких титулов.
Он приносил с собой свертки нот, проигрывал отрывки из «Героической» и из злополучной оперы «Фиделио». Несколько раз в груде нот оказывалась «Аппассионата». Но ни разу композитор не сыграл из нее ни единого такта.
Ему хотелось бы сыграть «Аппассионату» для той единственной души! Да, только так! И снова он уносил клавир в свою комнату. И все же однажды забыл его на рояле. Он обнаружил это на другое утро, и самым удивительным образом!
Он возвращался с прогулки из лугов, покрытый росой; подойдя к своей комнате, Бетховен остановился пораженный: его соната, которую он так тщательно таил от света, приглушенно доносилась из гостиной.
Или он ошибается? Может быть, это звуковой мираж? Может быть, его мозг переутомлен? Он прислонился к стене и слушал.
Нет! Кто-то в действительности играл его «Аппассионату», ее первую часть, в которой мечется Душа, а Зло нападает на человека, а тот взывает о помощи и предчувствует печальный конец.
Кто посмел прочитать его исповедь?! Он без стука открыл дверь. За роялем, спиной к двери, сидела Тереза. Она отрешилась от всего и ничего не слышала вокруг себя.
— Тереза! — позвал он, и в этом возгласе слышалось и удивление и гнев.
Она испуганно вскрикнула, повернулась к нему и поднялась со стула; ее лицо залилось краской.
— Простите, ведь ноты лежали здесь! — Она опустилась на стул, почти упала на него, закрыв лицо руками. — Это так удивительно, Людвиг, это ужасно, это прекрасно… Почему вы никогда не играли это нам?
Он молчал некоторое время, потом сказал:
— Есть вещи, которыми человек до поры до времени не делится ни с кем.
Она прикусила губу:
— Вы очень страдали!
— Все, что хочет выжить под небесами, вынуждено бороться против рока — трава, человек, все человечество. Но мало кому приходится вести столь тяжкую борьбу, как мне.
— Я знаю, — ответила она теми же словами, как и когда-то. — Но Бетховен не может проиграть бой.
— Не может? — горько переспросил он. — А если у него связаны руки? Если он осужден к ужасной каре — глухоте?
— Луиджи! — позвала она. — Я отдала бы свою жизнь, чтобы освободить вас от вашей беды. — Она в первый раз назвала его этим именем — раньше позволяла себе это только в своих думах.
— Иногда легче умереть, чем жить, — сказал он глухо. При этих словах он быстро нагнулся и поцеловал ее руки — одну и другую. — Но я не сто́ю того, чтобы за меня умирал кто-нибудь. За человека такого ничтожного таланта? За такого грубияна, за недотепу?
Читать дальше
![Антонин Згорж Один против судьбы [Sam proti osudu] обложка книги](/books/399142/antonin-zgorzh-odin-protiv-sudby-sam-proti-osudu-cover.webp)

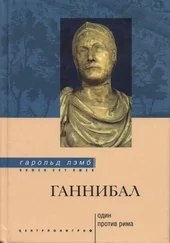



![Николай Васильев - Еще один баловень судьбы [СИ]](/books/415176/nikolaj-vasilev-eche-odin-baloven-sudby-si-thumb.webp)


