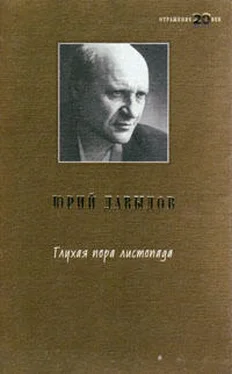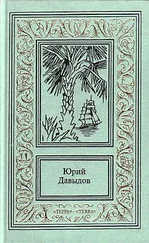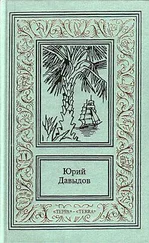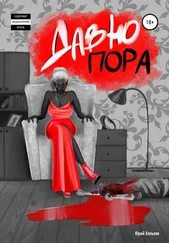– А ты, брат, не того, ты это брось, – сердито заговорил он. – Ты вот на цыпки встань да шею вытяни, а тогда и увидишь: тут, брат, го-су-дар-ствен-ное! Начальство не турок, крещеное, ежели б можно, то отчего матери не указать, а раз нельзя, стало быть, нельзя, и все тут. – Он досадливо помолчал, что-то будто соображая, подыскивая. – Ежели пустое, ежели гиль, то и начальство… Вот ты послушай! Намедни прихожу к самому. Иду. Вдруг кто-то на крик кричит: «Ай-ай-ай! Не буду! Не буду!» Я к унтеру дежурному, тот смеется: гимназистик, говорит, прибег, самолично, мол, видел, как две дамы цветики на могилку злодеев клали. Ну, их высокоблагородие велит поверку учинить. Учинили. Врет, оказывается, гимназия. Тогда Георгий Порфирьевич и велит всыпать по голой ж… Это, говорит, тебе заместо трешницы, чтоб впредь не врал. Хс-хе! У нас, видишь, у нас зазря не бывает, потому…
Неярко, мирно фонарь мелькнул, а филеров будто ослепило на миг. Потом донеслось:
– Сюда пожалуйста, господин.
Нерусского обличья был господин. Пальто на нем коротенькое, поля у шляпы широченные, хоть возами заезжай, а борода веером подстрижена, на манер заграничных корабельщиков.
Сторож, как нарочно, не туда фонарем брызжет, то опустит фонарь, то поднимет, то наотмашку – не дает, болван, разглядеть. Молодой филер горячо дышал; старый филер нос из воротника выставил и не смигивает, не смигивает. Господин-то иностранный у поднадзорной могилы замер. Прибежал зверь, ан ловцы тут как тут.
Он шляпу снял у могилы Тургенева. Поклонился. И вдруг, нечистая сила, истаял во мгле. А сторож с фонарем запрыгал, как шустрик жук.
Филеры кинулись вдогонку. Только бы не потерять, только бы в Расстанную не упустить. Они поспели бы, непременно поспели, да сторож, на беду, проводив иностранного господина, калитку щеколдой заклинил. Ну скорей, скорей же, олух царя небесного! Отворяй, чер-рт!
В Расстанной ударили копыта.
Старый филер охнул.
– На рысаке, – мрачно определил он, прислушиваясь к быстро стихающему цокоту.
– Должно, из немецких, – сказал сторож. – Ничего не поймешь: хэл, мэл, пэл.
Расстанная лежала без огней. На кладбищенской стене шевелились уродливые тени.
Шум экипажа иссяк.
Сторож ощупал в кармане чаевую бумажку, похмыкал, оправдываясь, и убрался. Старый филер без азарта поматерился ему вслед. Молодой осуждающе поплевывал.
– Ну и что теперь делать-то?
Старый крепко тиснул ему локоть.
– Ты вота что, брат, ты мне запомни: видеть не видели, знать не знаем, а то нас с тобою за такое упущение…
– Молчок, значит? А говорил «государственное».
– Заткнись, яйца курицу не учат, я те дело говорю. – И старый филер опять доверительно, отечески потискал локоть молодого. – Озяб? То-то бы стаканчик, а? Как полагаешь, а?
– У-у-у, – помечтал молодой.
– Стало, брат, и заруби: знать не знаем, видеть не видели. – Он помолчал, вздохнул: – А этот-то Лиговкой небось уж лупит…
Рысак вынесся на Лиговку. Г-н Моррис не любил Лиговку. Всегда она пованивала, всегда густела гнетущей угрюмостью. Петербургская угрюмость как рок, как безнадежность, лондонская иная, в лондонской – гордая независимость.
А в Лондон не успел, опоздал в Лондон: в тот день, когда беглецом из вологодской ссылки тайно пересекал границу (скрипела фура еврея-контрабандиста, синели мартовские лужи, вдали фрегатом маячила кирка), в тот самый день в доме на Мейтленд-парк-роуд уснул Мавр.
Чудовищный год: весною умирает Маркс, осенью умирает Тургенев. И к Тургеневу в Буживаль ты тоже опоздал. Иван Сергеевич звал: «Вы мне очень нужны, надо переговорить об очень важном».
Увы, не пришлось ехать в Буживаль: в тяжкой болезни Ивана Сергеевича не обнаруживалось светлых промежутков; страдал ужасно, рушась в буйный бред, когда с ним едва управлялись два дюжих санитара… Теперь уж кончено. Закатилось светило? Да, конечно, светило! Но Герману Лопатину суть в ином: щемит сердце, потому что утрата личная. Ушел не знаменитый человек, но человек душевный и милый, всегда готовый пригреть всякое живое, порядочное существо…
А Мавр умер, отошел тихо. Как уснул. И это тоже ему, Лопатину, потеря личная, своя, кровная. Зять Маркса, Лафарг, совсем расстроил Лопатина. Оказывается, добрый старик до последних дней поминал его ласково, сердечно. И говорил, что Герман Лопатин был единственным, от кого ему, Марксу, приходилось слышать новые, оригинальные идеи в экономической области. И Герман Александрович печально улыбался: «Гм, так уж и единственным…» Умер Мавр. Страшная штука: думаешь – впереди годы, годы. И вдруг громовой удар: навсегда! И не вернешь ничего. Ни домашнего, кабинетного, у камина. Ни воскресных прогулок. Весело мололи пустяки, подолгу обсуживали серьезное. А теперь чудится: главное-то и упущено… Дорогие мертвецы – вечные наши спутники. Но, увы, вечно и чувство невозвратного, упущенного…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу