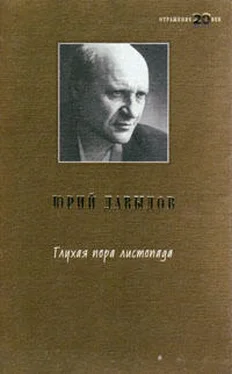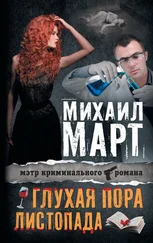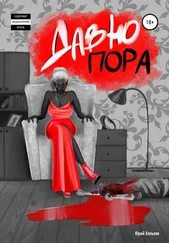15. Назовите имена тех, чья деятельность в наибольшей степени (со знаком плюс или минус) оказала воздействие на ход исторических событий нашего столетия.
– Краткий ответ невозможен. Монографический требует и знаний, и способностей, и времени. То есть того, чем я не располагаю.
16. Русская литература XX века в контексте отечественной и мировой художественной культуры. Наиболее значительные периоды, явления, имена. Ваша оценка феномена «советская литература».
– Не признаю единство культуры в произведениях советской литературы и русской зарубежной, эмигрантской. Последнюю, как и большинство сограждан, читаю лишь в последние годы. Советской как-то сторонился. Не из снобизма, а «мальчишкой боишься фальши» (Маяковский), которой (фальшью) несло, по-моему, за версту. То, что сторонился, – это очень хорошо помню. А на точности побудительных мотивов настаивать не берусь. Феномен советской литературы состоит, по-моему, в том, что вдохновение может возникать даже из-под палки; особенно тогда, когда в необходимость и целительность палки очень верят.
17. Судьба и роль русской интеллигенции в нашем столетии.
– Судьба, как и роль, оборвалась вскоре после Октября – Соловками и «философским пароходом». Для меня явление самое значительное и самое трагическое и в смысле социальном, и в смысле интеллектуальном. Психологического аналога не имеет. Последующая интеллигенция – не интеллигентная интеллигенция, а разного рода специалисты. Подчас высокого класса.
18. «Русская идея», проблемы «Россия и Запад», «Россия и Восток». Степень их актуальности, их трансформация в общественном сознании.
– Я согласен с Петром Первым: Россия не Запад и не Восток, а ЧАСТЬ СВЕТА. Ей присущи сближения, раздвоения и противоречия Запада и Востока. В настоящее время духовное влияние Запада, вероятно, исчерпано. Предвижу некоторое усиление восточного, но, думаю, краткое. Что до славянофильства, то оное содержит черт-те сколько списанного у немецких авторов. Особенно поздним славянофилом Данилевским, коего новые рыночные издатели рекламируют как оригинальнейшего чисто русского мыслителя.
19. Ваше представление о будущем страны. С какими процессами Вы его связываете?
– Существующая скрытая баркашовщина (в судах, силовых структурах, в верхнем административном эшелоне) выступит открыто. Свобода слова сохранится, ибо каждый будет волен кричать «Зиг хайль!» и «Сионизм не пройдет!». ГУЛАГ возродится. Возможно столкновение с фундаментальным исламизмом. Вообще же будущее страны – в единстве с будущим других стран, ибо оно чревато экологической катастрофой.
Январь 1996 г.
Дружба народов. 1997. № 3
«МИНУВШЕЕ ПЛЕНЯЕТ НАВСЕГДА…»
Из беседы с Ю. Болдыревым для журнала «Вопросы литературы»
Ю.Б. : Интерес к литературе, повествующей о прошлом страны и народа, к исторической романистике не пропадал никогда. Исторические книги пишутся и читаются в любую пору. Но если, скажем, в 50-е, в начале 60-х годов такие книги терялись в общей литературной массе, их разыскивали на магазинных и библиотечных полках лишь любители острых исторических сюжетов, биографических повествований, то в 70-е годы историческая проза наравне с прозой, посвященной современной жизни, читается всеми, широко и горячо обсуждается и читателями, и критикой… Чем вы объясняете этот поворот внимания?
Ю.Д. : Бывают такие периоды в жизни страны, народа, общества, которые мне напоминают нахождение в шлюзе, где плывущее судно переводят с одного горизонта на другой. В шлюзе, конечно, происходит задержка, но не зряшная, не пустая: поднимается уровень воды, вместе с ним поднимается судно и становятся видны и прошлый путь, и будущий. А пишущий человек – один из членов экипажа, он тоже возвышается вместе с судном, и ему открывается пройденное так, как оно не виделось раньше. И он пишет о нем…
Письменно, на бумаге, этот момент можно выразить, обозначить буквой «и». Было былое, были думы, а теперь возникает то, что называется «былое и думы». Думы связаны с былым, но в то же время в них многое определено тем будущим, горизонты которого открылись из этого шлюза.
Ю.Б.: Как вы лично пришли к исторической прозе?
Ю.Д. : Я к ней не пришел, я из нее вылупился. Не могу, конечно, сказать, что в детстве я знал, что буду писателем и буду писать в историческом жанре. Но склонности обнаруживаются в ребяческом возрасте. Они потом могут видоизменяться, расплываться или, наоборот, конкретизироваться, сужаться, – все же впервые они сказываются там и тогда. Многие писатели сейчас приходят к исторической прозе после работы в иных жанрах, я же начинал с нее. Может быть, в этом невыгодно признаваться – обнаруживается некая узость, изначальная приписка к одному цеху, даже какая-то ограниченность. Но я не один, есть и другие писатели, идущие тем же путем: Д. Балашов, В. Бахревский…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу