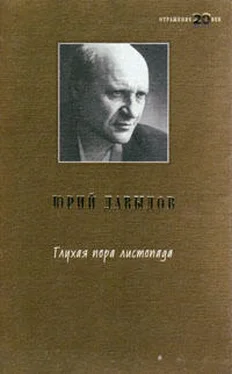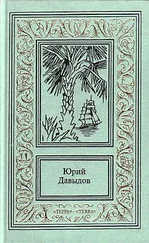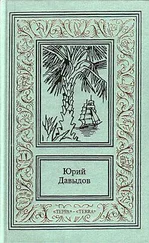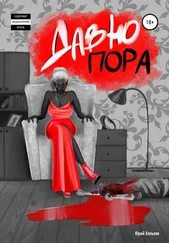Однако арестант на то и арестант, чтобы, как говорят острожники, втянуться . И Сизов помаленьку притерпелся. А зимою, когда вдарили морозы под тридцать, когда забурунили бураны, каторжной сахалинской зимою пришла к Сизову настоящая каторга – общие работы.
Поднимали затемно. На дворе жгла железная стужа. Арестанты шеренгами стояли у бараков. Старший надзиратель и писарь – с фонарями, ежась, торопливой побежкой – «разбивали» каторжных на десятки и дюжины.
Арестанты переминались, толкались плечами, боками. Над шеренгой валил пар… Окаянная жисть. Что в ней есть, проклятой? Да ничего, одни окаянные общие работы. И они ждали этих общих работ со злобным нетерпением. Топоры – за кушаками. У некоторых еще и котелок: в тайге сладят костер, вскипятят талый снег – полощи мерзлое брюхо.
Сколько уж минуло «разбивок»? Но всякий раз в этой ледяной полутьме, под этими волчьими звездами Сизова прокаляло сознанием своего рабства и рабства тех, кто был с ним рядом.
К топору зовете Русь?
Вот она – с топорами.
Шлиссельбург был нем. Беззвучно, как в песочных часах, истекало время. Различался лишь шорох. Шорох войлока по шероховатому камню, по шершавому железу.
Ветер натягивал бухлые тучи. Тучи роняли короткий, скошенный дождь. Лопатин не видел туч: слепы двойные матовые стекла. И не слышал дождя: непроницаемы стены. Но Лопатин ощущал и тучи, как они наваливаются или редеют, и дождь, как он удлиняется или усиливается, ощущал тем загадочным чувством, которое ведомо лишь замурованным.
Койку днем откидывали к стене и замыкали. Ходи. Сиди на деревянной скамье. Лопатин ходил, сидел. Нынче возникало, лепилось в строку: «Да будет проклят день…»
Милый Петруччо, вот кто был поэтом. А ты никогда ничего не творил. А теперь вот и ты слагаешь строфы.
Да будет проклят день, когда
На пытку мать меня родила
И в глупой нежности тогда
Меня тотчас же не убила…
Милый Петруччо, поэт, ушел в сибирскую каторгу. И это к лучшему, Петруччо. Ты бы не вынес этих сводов, этих черных дверей и слепых, как небытие, матовых стекол.
Да будет проклят день, когда
Впервой узрел я эти своды
И распрощался навсегда
С последним проблеском свободы…
Сосед стучал, приглашая к беседе. Лопатин не отзывался. Нынче нет желания тупо выстукивать буквы, пользуясь стародавней тюремной азбукой. Нет, Лопатин не хочет, не желает отвлечься медленной беседой. Он снова и снова казнится невольной своей виною, сгубившей многих. Виною, так и не искупленной смертью на эшафоте.
Да будет проклят день, когда
В терзаниях сердечной муки
Под гнетом горя и стыда
Бессильно опустил я руки…
Стародворский стучал, приглашая к беседе. И внезапно умолк.
Послышалось глухое рычание:
– Я те покажу стучать! Я те покажу… В карцер хочешь?!
И смотритель Соколов-Ирод грохнул форточкой в камере Стародворского. Лопатин замер. Он боялся того, что сейчас должно было произойти, не могло не произойти.
Безмолвие Шлиссельбурга плющило душу. Казалось бы, каждый сторонний звук должен был нести облегчение. Но безмолвие Шлиссельбурга обладало таинственным свойством – сторонний, нестрашный звук (брякнет ли в коридоре печная заслонка, обронит ли жандарм полено) тотчас беспощадно и нестерпимо сотрясал узников. Их лица подергивались, они метались как от боли, они выходили из себя, впадая в бешенство.
И Соколов-Ирод знал об этом. Он любил, подкравшись, внезапно грохнуть дверной форточкой-кормушкой или задеть о дверь тяжелым ключом. Притом Соколов всегда безошибочно угадывал, кто из его подопечных сегодня особенно в «нерьвях».
То, чего боялся Лопатин, случилось. Стародворский бешено забарабанил в дверь кулаками и ногами: «Перестань! Перестань!» А форточка-кормушка грохала еще и еще. Ирод шипел: «Ты раздражаешься, ну и я раздражаюсь… Ты раздражаешься, ну и я раздражаюсь…»
И вот уж гремела вся тюрьма. Лопатина тоже подхватило вихрем. Он тоже кричал и колошматил железную гробовую черную несокрушимую дверь.
Утихло внезапно, как и началось. Немота Шлиссельбурга словно бы уплотнилась. Время текло беззвучно, как в песочных часах. Но сами часы-склянки оставались незримыми. И времени не было. Был шорох войлока по шероховатому камню. «И гад морских подводный ход».
Приказали:
– Двадцать седьмой, выходи!
Шлиссельбург населяли не люди-узники. В Шлиссельбурге содержались номера . Лопатин, двадцать седьмой, шагнул в коридор с чередою черных дверей, шагнул в сумрак, где означалась сетка, натянутая между этажами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу