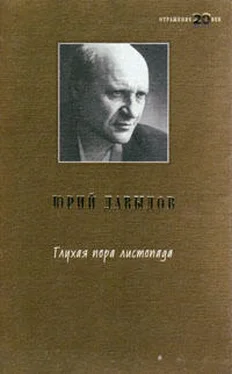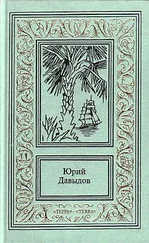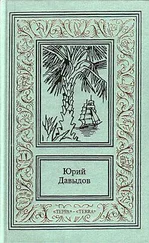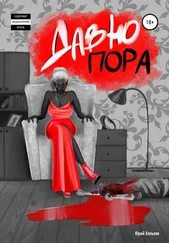Темница была узенькая, неправильной формы, наверное, втиснутая промеж каких-нибудь судовых надстроек, затылок потолка касался, на полу не вытянешься. Ошариваясь с тем интересом, какой возникает у заключенного даже в карцерах, Сизов не тотчас почувствовал чудовищную температуру своей «кельи». А было тут жарче, чем в сушильных камерах фабрики Гюбнера, где когда-то он задыхался, беспаспортный и бездомный слесарь-москвич.
Из сушилок-то еще можно было скакнуть к кадушке с ледяной звонкой водою. А карцер задраили наглухо. И вскоре уж Нил погрузился в булькающее, кипящее как масло забытье.
Ни тогда, в карцере, ни потом, в трюме, Сизов не помнил, как матросы раз в сутки давали ему кружку воды и сухарь. Не помнил, пил ли, ел ли… Не помнил, как фельдшер испугался: «Что, худо?..» И как белоснежный пенитель морей выставил свой диагноз: «Они, стервы, двужильные…» Ничего Сизов не помнил, не сознавал, а будто все время плавал в огромном чану с кипящим, булькающим, рыжим, огненным маслом.
Когда Сизова снесли в трюм, боцман сказал, чтоб все слыхали: «Мотрите, он того-о…» – и покрутил корявым пальцем около виска. Это ему, боцману, так господин старший офицер приказали: сумасшедших ведь чураются, как заразных.
Каторжные, однако, бережно уложили Сизова на верхних нарах, ближе к вентилятору. В Яванском море вентилятор ожил: сипел влажным, рыхлым воздухом.
Между тем в трюме действительно был сумасшедший. Он зарезал близнецов, малолетних своих сыновей, косарем порубил на куски, упаковал в корзинку и отнес на почту. Врачи-эксперты не поместили несчастного в лечебницу, а судьи осудили его на двадцать лет… Незлобивый, тщедушный, он чуть не целыми днями просиживал в гальюне. Оттуда, из отхожего места, исступленно возносил молитвы всевышнему. Ночами принимался за свое, но уже не в гальюне, а в трюме. Возвышал голос все громче, молился на крик, разражался рыданиями. Каторжане вскакивали: «Уймись, холер-р-ра!» – и дубасили беднягу куда ни попадя.
Оклемавшись после карцера, Сизов подумал, что ни разу во весь долгий рейс «Костромы» не вступался за помешанного. Ему стали непереносимы ночные избиения, он не мог видеть безумца, иссохшего, как былинка. Нил, впрочем, понимал, что на призыв к милосердию он вряд ли дождется отзыва сотоварищей. Оставалось снова обратиться к старшему офицеру. К тому, кого Сизов недрожащей рукою зарезал бы или выбросил за борт. Просить эту гниду?
Поразмыслив, Сизов решил ходатайствовать перед судовым доктором. Раздобыл у каторжных клочок бумаги, огрызок карандаша. Написал записку. В записке старательно вывел «милостивый государь», «покорнейше просим» и т. д. Даже ввернул нечто о человеколюбии… Словцо припомнилось из книжки, которая называлась «Через сто лет» и которую он лениво полистал в сторожке дяди Федора.
Записку Нил отдал матросу-часовому. Тому самому, что уговаривал «не лезть на рожон». Часовой сперва отнекивался, потом согласился: «Доктор у нас на посуде добёр».
И точно, на другой день сумасшедшего увели из трюма в лазарет. Однако ходатайство не прошло Сизову даром. Старшего офицера разъярило нарушение порядка: все сношения каторжных с судовым персоналом были в компетенции лейтенанта. А нарушителем-то оказался мерзавец, посмевший «тыкать» ему, старшему офицеру «Костромы».
Сизов опять очутился в карцере. Вторичного «поджаривания» он, наверное, не вынес бы, если бы теперь кормушку не оставили отворенной. Команда, прослышав о норовистом каторжном, страждущем не за себя, тайком потчевала Нила то лимонадом, то бананами, то гуляшом с макаронами.
Вернули Сизова в трюм уже близ Сахалина. «Кострома», умерив ход, двигалась в проливе Лаперуза. Нил, несмотря на трюмную вонь и духоту, с наслаждением вытянулся на нарах, потому что в карцере корчился в три погибели…
В тот же вечер, туманный и мглистый, «Кострома» налетела на Камень Опасности. Вода, урча и прихлюпывая, начала поступать в трюмы. Каторжные, обезумев, заметались в темноте.
– То-о-нем!
– Пустите на палубу-у-у!
– То-о-нем!
На минуту приоткрылся люк. Старший офицер заорал срывающимся голосом:
– Молчать! Паром ошпарю!
И люк захлопнулся.
Вода уже не урчала, не хлюпала – шумела ровно, сильно.
В тысячах миль от Камня Опасности, на другом камне, посреди иных, несоленых, вод возлежала тюремная крепость.
Белые ночи призрачны. И потому, наверно, белыми ночами не видать призраков. Ни заколотого шпагами царевича Иоанна, ни еретика Круглого, истлевшего в замурованном склепе, ни польского патриота Лукасинского, угасавшего в одиночке тридцать семь лет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу