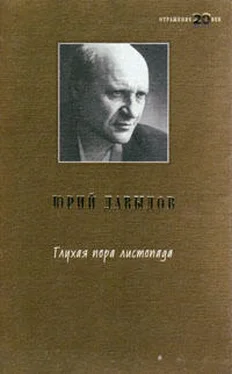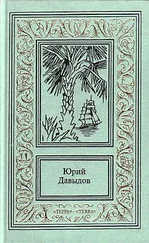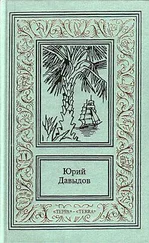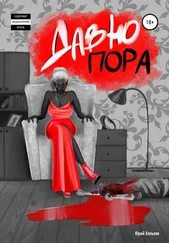Тихомиров терял голову. Но к нему тянулись, к нему приходили. Одни уезжали в Россию, другие приезжали из России, третьи собирались в Швейцарию. Люди говорили, волновались, доказывали: организация, централизация, децентрализация… Он слушал, прислушиваясь к той комнате, где умирал Сашура. Он отвечал, отвечая самому себе: революционные силы иссякли, культурная работа – вот что нужно; условия изменились, былые герои – в былом, все выродилось, измельчало, бури нет, есть рябь и пена… От Тихомирова уходили пораженными, уязвленными, обиженными. Потом прощали: умирает ребенок.
Саша слабел день ото дня. Глаза косили. Игрушки не занимали его. Когда боль стихала, он смотрел перед собою. В этом неподвижном взгляде было не детское и не взрослое, а было ясновиденье: он чувственно распознавал смерть.
А луна ее призывала, потому что из какого окна ни погляди, какой она ни будь – полной или ясной, круторогой или в пятнах, – всегда слева. Под окнами ночами выл пес. Приблудный, ничейный, выводил переливчато и с перепадами, не срываясь на звонкое, сипло выл, не жалуясь и не оплакивая, нет, угрожающе, мстительно, подло торжествуя.
Неверный свет луны сливался с песьим воем. Тихомиров подумал: «Пусть придет скорее. Надо отворить ей двери. Довольно, пусть уносит. Приди, милосердная».
Мысль эта ужаснула его. Ведь думал он не о Сашином избавлении. Он думал о том, что сказал доктор: если и выживет – слепота, тупоумие… И, подумав: «Приди, милосердная», – взывал о милосердии к себе, к самому себе, к избавлению от калеки сына.
Он ужаснулся. Однако поначалу тому, что Катя, уже уснувшая, очнется вдруг и уловит, поймает сейчашнюю его мысль. И, лишь ужаснувшись этой Катиной догадке, Тихомиров ужаснулся самому себе. Как он, нежный отец, мог так подумать? Он съежился, словно над люком, в который не дозволено и опасно заглядывать. Что значат океанские пучины в сравнении с безднами души? Все путалось, перемежалось, чадило, зыбко плавилось.
Тогда он взмолился. Не к богу обращался Тихомиров, безбожник с гимназической скамьи. Он не упал на колени. Не достал заветный образок св. Митрофания, мамин подарок. И не раскрыл маленькое евангелие, сестрин подарок, который был тут же, среди его книг.
Но все ж он молил о пощаде. Не было произнесено затверженных в детстве молитвословий. Но он молил, взывая о пощаде. Кого? Нечто. Кого-то. И обещал что-то исполнить, не сознавая, что именно, но хорошее, доброе и для него, Тихомирова, очень трудное.
– А вы бы напомнили комиссару Равошолю: ведь недавно наш государь пожаловал Анну прокурору. И правительство республики позволило прокурору носить монархический орден!
– Вы о деле князя Кропоткина?
– Да.
Рачковский улыбнулся.
– Ах, Александр Спиридоныч, Александр Спиридоныч… Так-то оно так, да только сотня парламентариев потребовала немедленной амнистии.
– Которая, однако, не выгорела.
– Оттого, что преступление Кропоткина было совершено здесь, на территории Франции, и судил его суд французский. А у нас с вами-то никаких юридических обоснований нет-с. И быть не может-с… – Рачковский опять иронически улыбнулся. – Орден святыя Анны… Лента через левое плечо… А мосье Равошоль, бьюсь об заклад, придерживается пословицы: из орденской ленты шубы не сошьешь. Ему шуба нужна, вот что, Александр Спиридоныч. Шу-ба-с!
– И во сколько она нам влетит?
– Одному комиссару или вообще? – Рачковский широко повел рукою.
– Вообще.
Рачковский помолчал. Он уже знал прижимистость подполковника Скандракова. Радетель казенного добра, черт его задери. Не из своего кошелька, а жмется, как барышник.
– Уж я прикидывал, – сказал Рачковский, – и так прикидывал, и эдак…
– И что же?
– В итоге, Александр Спиридоныч, никак не меньше пятнадцати.
– Пятнадцати тысяч?
Рачковский вздохнул.
– Именно-с. Меньшим не обернуться. – Он оживился. – Да вы, прошу вас, вникните. Вот взять Дегаева. Безвредный, никому уж не нужный. А за него, извольте-ка, за него – десять. За одно лишь указание, где он. А тут… – Рачковский руки воздел. – Тут тяжкий преступник, главарь, вся надежда революции!
– Десять тысяч объявлено отнюдь не за «указание», – сухо поправил Скандраков. – За по-им-ку. А за указание – вполовину меньше.
– Ну хорошо, хорошо, пусть так, ошибся. Однако как не признать – Тихомиров-то не чета Дегаеву! Как не признать?
Скандраков насупился. Его коротенькие ножки, суча и припрыгивая, то высовывались, то вновь прятались под креслом. Эва заломил, брюзгливо думал Скандраков. Правда, в банке – «золотой молоток». И прямехонько на сей параграф расходов. Но Александр Спиридонович всегда жалел казенные деньги. Искренне жалел. А Рачковский и в ус не дует. Привык, видать, жуировать. Ишь нафранчен-то. А в отчетах, которые шлет департаменту, привирает. Как пить дать привирает. А вот пойди-ка обревизуй такого. Нагородит с три короба, а не ухватишь. Однако должное следует отдать – ловок, деятелен, неглуп, далеко не глуп.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу