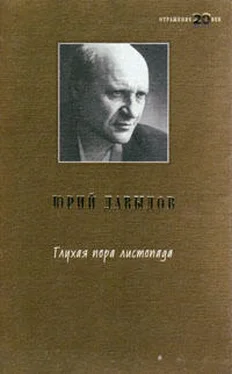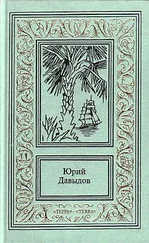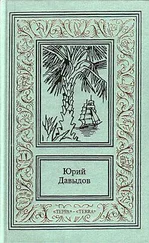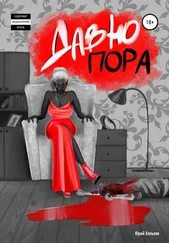Якубович был возбужден. Якубович высказался стремительно. А Герман Александрович будто и не расслышал ни о «подозрениях на подозрения», ни о «непригодности к практическому», ни о «желании изолироваться», а расслышал только про дерптскую типографию.
– Гер-р-рой, удр-р-ружил, чер-р-рт, какая пр-р-роница-тельность! Сбер-р-рег! – рокотал Лопатин.
Это все адресовалось Переляеву.
– Стойте! – И Лопатин остановился. – Да знаете ли, кто он? Мне ж о нем Блинов… Клянусь, тот самый. Блинов, именно Блинов про дерптского приятеля говорил, хоть и безымянно, но говорил. Тогда это было ему очень важно, Петр Филиппович.
Якубович при имени Блинова тотчас подумал, что сейчас похож на Блинова. Однако, нет, не похож… Он-то вот уже и сказался Лопатину, а Блинову не дали. «И виною – я, я, я!» – горько простучало Якубовичу. Горько, но коротко: он съежился, напрягся в ожидании ужасных обвинений – Лопатин не назвал его «Петруччо», а назвал Петром Филипповичем.
– Петр Филиппович, – говорил Лопатин, отпуская локоть Якубовича, – позвольте-ка без дипломатии. Дегаевским ядом мы, верно, все малость отравились. Так вот мне, грешным делом, мелькнуло эдакое. Но лишь мелькнуло, потому что вы и эдакое – абсолютно! Абсолютно несовместно.
Лопатин говорил то, что Якубович жаждал услышать. Но говорил, словно бы мешкая, словно бы запинаясь, и Якубович все еще был в напряжении.
– Не обижайтесь, – продолжал Лопатин, – выслушайте холодно. Ни на йоту не сомневаясь в Петре Филипповиче Якубовиче, я сомневаюсь… – Лопатин повел подбородком в сторону, туда, за Екатерининский канал, за дворцовый Михайловский сад. – Согласитесь, этот мерзавец непременно донес на вас, а «там», по известной методе, решили повременить, не трогать Петра Филипповича Якубовича. Якубович – человек заметный, публика тянется. Огонь горит ясный, ну и летят, слетаются. А ведь и сам по себе огонь, и те, кто на него слетается, далеконько видны. Как полагаете? Ежели без эмоций, трезво?
Якубович растерялся. Потом криво усмехнулся:
– Выходит, я… Стало быть, по-вашему, я подсадная утка?
Лопатин развел руками.
– Ну-с, это… это несколько… Впрочем, чем грубее, тем точнее. А что поделаешь, Петруччо? – И словно затем, чтобы не длить его унижение, быстро сказал: – И потому-то ваша поездка в Дерпт оказалась бы полезной втройне: избавите некоторых товарищей от прицельных выстрелов нынешних Судейкиных, это раз; со своего следа гончих собьете, два; и третье, самое главное – газета. Верно? Ведь верно ж, Петруччо?
– Да, пожалуй, – промямлил Якубович.
Он бы теперь, кажется, и подозрения на самое ужасное принял, лишь бы не быть «подсадной уткой». Желанное устранение от главного русла, желанная поездка в Дерпт, желанное служение пером – все захлестнуло чувством унижения, обиды, чем-то неуловимо отвратительным. И даже, черт побери, нелепо-смешным: «подсадная утка…»
А Лопатин, снова взяв об руку Петруччо, уже рассуждал, что десятый номер «Народной воли» должен выйти в свет, должен свидетельствовать единство, что раскол с Исполнительным комитетом недопустим, что надо скорее кончать неразбериху да и грянуть всей артелью.
Якубович слушал плохо.
Знака безопасности не было. Этого следовало ждать каждый день. И не столбенеть посреди Пушкинской.
Знака безопасности – штора наполовину окна, зажженная лампа на подоконнике, чуть приоткрытая форточка – не было. Вновь обретя способность двигаться, Флеров несколько раз прошелся по Пушкинской, медлил напротив дома номер двадцать, пристально взглядывая на одно из окон, в третьем этаже. Ни шторы, ни лампы. И форточка закрыта.
Флеров не знал, что в этот час в здании у Цепного моста чиновник департамента государственной полиции выводит красиво и четко: «Дело о Рабочей группе партии «Народная воля». Этого Флеров не знал. Зато он, закоперщик упомянутой группы, знал, что участие в ней предусмотрено статьей 250-й «Уложения о наказаниях»: годы и годы каторги.
Каторги Флеров не то чтобы не страшился, но принимал, как каждый русский принимает русскую пословицу о суме и тюрьме. И другие участники Рабочей группы тоже ее принимали, студенты да курсистки, собиравшиеся в квартире на Пушкинской.
Уже редчал прохожий, шум извозчиков возникал словно бы внезапно, из парадной проститутка сигналила папиросой, а Флеров все ходил, ходил, рискуя навлечь внимание дворников.
Флеров думал о тех, кого захватили и увезли либо на Шпалерную, в дом предварительного заключения, либо в штаб корпуса жандармов, либо в крепость, на Петербургскую сторону. Он думал о своих товарищах горестно, но вместе и с каким-то неправедным укором. Он почти злился на теперешних арестантов, словно те нарочно сделались арестантами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу