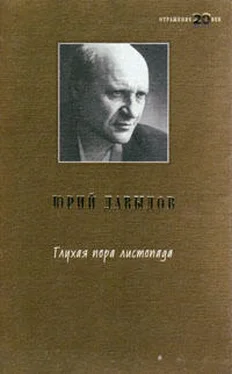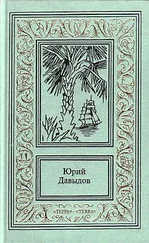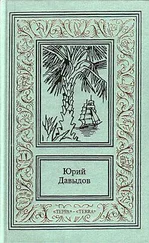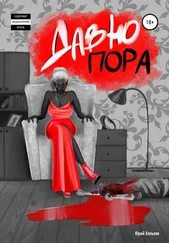Квартиру присмотрели накануне. Росси был один, Росси ждал Дегаева.
Степана Росси – по паспорту итальянского подданного, по делам русского крамольника – Дегаев знавал еще на юге, в тамошних подпольных кружках.
Росси дал Дегаеву бритвенный прибор. Дегаев брился тщательно, как в театр собирался. Не сознавал, однако, не замечал, что говорит без умолку, горячечно.
Говорил о том, что Росси было знать не положено: убийством Судейкина искуплена его, Дегаева, вина перед партией, Лопатину никто не поручал вмешиваться, Герман Александрович по обыкновению много берет на себя; «хохлы» – Дегаев назвал имена, те самые, с которыми он, Росси, встречался на Большой Садовой, помогли ему, Дегаеву, а теперь он поедет в Париж, а в России о нем, Сергее Петровиче, еще не раз пожалеют. Пожалеют! Он бы многое сделал, если бы…
Дегаев не умолк и тогда, когда вместо своего долгополого пальто надевал новехонькое, короткое, с накладными плечами, и когда примерял перед зеркалом атласный шапокляк, такой модный в сравнении с его потертой барашковой шапкой.
Переодетый, гладко бритый, он показался себе неузнаваемым и почти весело пригласил Росси: «Проводите меня!»
На Варшавском вокзале, всегда оживленном, в огнях, они приметили одного из «хохлов», поняли, что все сошло удачно. Не доходя до вагона, Росси отстал и замешался в публике.
В купе сидел Куницкий. Стась ни о чем не спросил. Лицо его казалось голубоватым. Сергей Петрович ощутил непримиримую враждебность Куницкого. Но Дегаев загодя знал, зачем и почему поедут они в одном купе. Огорчился другому, пустячному: Дегаев не терпел табака, а Куницкий курил отчаянно.
Вот и сейчас он опять зажигал папиросу, и Дегаев недовольно пошевелился, хотя понимал всю ничтожность своего недовольства.
«Дыми, дыми, – мстительно думал Сергей Петрович, – дыми. Вы все предусмотрели, голубчики, а? Где вам догадаться, что я не ветром подбит, при больших тысячах? Откуда? Чьи? То-то и оно, смешались, не разберешь – откуда и чьи: пахнут и Судейкиным, и партийной кассой».
Правду сказать, стыдился он этих тридцати тысяч. Утешался: «Обстоятельства сильнее нас». И все-таки мог бы, нашел бы силы признать все, во всем признаться, а в этих вот деньгах – как добыл, как утаил – никогда бы и на медленном огне не признался.
Теперь, в поезде, вспоминая про деньги, он не то чтобы радовался им, торжествовал, что всех обвел, нет, он испытывал мстительное злорадство. Оно уводило и от Куницкого с его «бульдогом», и от этих невидимых телеграфных проволок, и от того рокового, что могло стрястись еще до пароходной каюты.
Но едва поезд тормозил, едва показывались сперва беглые, потом недвижные огни, а на дебаркадерах возникали тени, слышались голоса, как Сергей Петрович ощущал весомые, редкие толчки сердца.
Куницкий вставал, прислонялся спиной к дверям. Настороженный, с голубеющим, как бы светящимся лицом, с закушенной в зубах папиросой. А рука в кармане, где револьвер.
Ударял колокол. Свистел обер-кондуктор. И вот уж опять все сильнее, все четче стучали колеса, стучали заветное: «Ли-ба-ва, Ли-ба-ва, Ли-ба-ва…»
Был первый час ночи.
В первом часу ночи тайный советник фон Плеве подровнял бумаги стопкой. Вячеслав Константинович любил это финальное движение: «Исполнен долг». Кончен длинный служебный день. Один из тех, которые зачастую продолжались и вне департамента, в домашнем кабинетном уединении.
Отношение к письменным занятиям (а равно и к письменным принадлежностям) было у г-на Плеве не мелкочиновничье, не канцелярское, а почти жреческое. Он обладал уверенным почерком, бумагу и перья всегда выбирал сам, карандашом пользовался редко, чернила предпочитал фиолетовые, ибо в фиолетовом усматривал безукоризненность, чуждую эмоциям.
Запирая ящики, Вячеслав Константинович мельком, но с удовольствием слышал мелодическое позвякивание связки бронзовых ключиков, ритуальные звуки завершающегося длинного служебного дня. «Исполнен долг…»
Теперь тайный советник и кавалер, директор департамента полиции его превосходительства В.К. фон Плеве был уже человеком вполне домашним. Отец своих детей, супруг своей Зизи.
Он поднялся, удостоверился, все ли в порядке, и по обыкновению тихо порадовался, что сумел отстоять свой кабинет от агрессии супруги. Она вольна командовать где угодно. И командует. Гостиная недавно украсилась французскими пасторалями, столовая – недурными маринами, а спальня – чем-то весьма и весьма пикантным, кажется, кисти Греза. Но в кабинете все неизменно. Мебель прежняя, привычная, еще варшавская. Лишь к настольному портрету покойного государя Александра Николаевича прибавился портрет государя императора Александра Александровича, царствующего благополучно. Г-ну Плеве очень нравятся эти портреты: такие превосходные, в мягких отблесках рамки шагреневой кожи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу