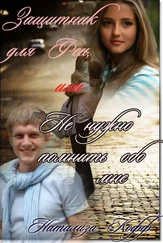— О да! — готовно подхватил Мозалевский. — Сохраним огонь. Вы правы, барон.
Сухинов пыхтел цигаркой, недовольно ворчал:
— Красиво говоришь, Вениамин. Жаль, царишка Николай тебя не слышит. Ему бы понравилось. От твоих речей за версту несет смирением.
— Что тебе дался царь, Иван? Разве в нем дело?
— То и дался, что подлец. Вы как хотите, а я тут в норе долго сидеть не намерен.
— Что ты задумал, Сухинов, опомнись!
— Ничего не задумал. Огляжусь, тогда задумаю. — Приподнялся на локтях, пытаясь во мраке разглядеть лицо Соловьева, сказал вдруг с искренним удивлением: — Неужели вы вправду намерены гнить здесь заживо?! Вениамин! Саша!
После паузы, смущенный упреком, прозвучавшим в голосе товарища, Соловьев нехотя ответил:
— Есть обстоятельства, против которых человек бессилен. Пытаясь что-либо изменить, он тем скорее приближается к гибели. Мы сейчас именно в таких обстоятельствах.
— Вы — но не я! — воскликнул Сухинов. — Запомните, барон, вы — но не я. Меня обстоятельства устраивают вполне. А трус всегда найдет объяснения для бездействия!
— Как вам угодно, сударь! — сухо бросил Соловьев. Он должен бы был ответить дерзостью на оскорбление Сухинова, но не сделал этого. Предчувствие беды сковало его язык… Много лет спустя он напишет про Сухинова слова, полные любви и восхищения. «Как теперь, смотрю на него: высокий, стройный рост, смуглое, выразительное лицо, глаза быстрые, проницательные; эта задумчивость, даже некоторая суровость в выражении лица — приковывали внимание при первом на него взгляде. Но кто знаком был с Сухиновым, кто знал душу его, тот неохотно с ним расставался…»
Часть третья
ДОРОГА В ВЕЧНОСТЬ
1
Все чаще и отчетливее вспоминались Сухинову картины прошлого: восстание, разгром, бегство. Иногда ему казалось, что он понимает, в чем ошибка и в чем причина поражения. Больше других ему хотелось бы повидать двух людей — светловолосого, всегда так приветливо улыбающегося Кузьмина и Сергея Ивановича. Они оба были ему родными, но как же небрежен и брюзглив он бывал подчас с простосердечным Анастасием и как позорно глух к мудрым истинам, кои пытался ему открыть Муравьев. Да и не один он был глух. Как раз в этом он и видел теперь одну из главных причин столь страшного краха их благородных замыслов. Конечно, в этом. Их много собралось — удалых, поднявшихся на святое дело с открытым сердцем, но незрячих, плохо понимающих, за какую правду готовы они положить головы. Было много говорено красивых слов — «воля народная», «свобода для всех», «смерть во имя отечества», — эти слова были довольно расплывчаты, их туманный смысл легко доходил до сердца, но слабо затрагивал разум.
Сергей Иванович знал больше их и видел дальше их, он не в завтрашний день смотрел, а через годы и потому не спешил. А они, озорные щенята, торопили его, готовы были упрекать чуть ли не в трусости — что мог он один или вдвоем с Бестужевым поделать с их нетерпением, если сошлось так, что, кроме как на них, ему не на кого было опереться в роковые дни. Это они его подвели, а по он их. Впрочем, нет, никто никого не подвел, все они были честны и готовы сражаться, и некого упрекнуть. В том-то и дело.
Не Муравьев ли сказал ему однажды: «Ты пойми, Иван Иванович, в революции побеждают не пушками, не только пушками. Можно выиграть сто сражений и ничего не добиться. Потому что революция сначала должна произойти в сердцах и умах». Что понял тогда он, Сухинов, в этих словах? Ничего, попросту отмахнулся от них, как от умственной блажи. Только здесь, на каторге, он прозрел, и эти слова больно кололи его душу.
Когда он смотрел в отчаянные глаза каторжников, он видел там только бешеную муть и ярость — и ничего более. Эти люди готовы были на все, но ради чего? Ради только собственной свободы, ради будущей богатой гульбы, ради мести. Мужественные, гордые есть среди них люди, а верить им нельзя, прав барон. Нельзя им верить, потому что они слепы, тяжкая жизнь их давно ослепила, и разве сможет он открыть им глаза, он, перед которым истина только-только забрезжила, как сияющий алый цветок в голубоватой дымке.
Но поднять этих людей на восстание он сможет, и у него есть цель. Он придет в Читу, освободит политических ссыльных, непогибших братьев своих.
После ночного разговора Сухинов решил не делиться с товарищами своими планами. Да они не особенно ими интересовались, решив, что поручик успокоился, осознав полную безнадежность сопротивления. Прошло несколько дней — все они немного воспрянули духом. Что даром бога гневить — по сравнению с другими им повезло: работа в рудниках тяжелая, непривычная, зато ходят они раскованные и живут в избе. Есть кое-какие деньжата: можно прикупать еду и одежду. И всегда тешит надежда на какой-нибудь царский манифест, на прощение, на забвение грехов. Подошлют еще денег (родные или друзья) — к лету можно будет купить собственную избу. Это разрешается. Действительно, не так страшен черт, как его малюют. Чаще улыбался Саша Мозалевский, спокойнее смотрели глаза Соловьева. Он возвращался мыслями к оставленным где-то там, за предельной чертой, близким, дорогим людям, беседовал с ними, и в этих незримых встречах уже не было прежней горечи и беспросветности, похожей на разговор мертвого с живыми.
Читать дальше
![Анатолий Афанасьев ...И помни обо мне [Повесть об Иване Сухинове] обложка книги](/books/394501/anatolij-afanasev-i-pomni-obo-mne-povest-ob-cover.webp)