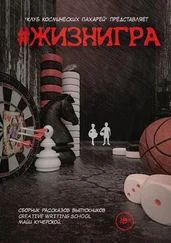Скорее! Скорее!
Мудров вырвал у Мейзеля саквояж и бросился, оскальзываясь и хрустя осколками, в особняк.
Осмотрите здесь всех и ко мне наверх! Там могут быть люди! Живые!
И исчез внутри. Только ноги забухали – ступенькиступенькиступеньки.
Ом-м-м! Ом-м-м-м! Ом-м-м-м-м!
И Мейзель наконец-то увидел среди перепуганных, истерзанных вещей человеческие тела.
Изломанные. Неподвижные.
Очевидно, выброшенные с большой высоты.
Нет.
Мужика, который окуривал всё уксусом, просто разорвали.
Мейзель узнал его по лаптям. Никого другого в лаптях не было.
Это больной. И это тоже больной. Кажется, утром еще умер – повезло.
А это?
Мейзель отдернул глаза, зажмурился.
Бланк.
Вдох. Вдох. Еще один вдох. Спокойно.
Мейзель заставил себя открыть глаза. Наклонился.
Бланк лежал на спине, одна нога ненормально, мучительно вывернута – пяткой вверх. Сломана минимум в трех местах.
Одно ухо почти оторвано. На щеке – порезы, глубокие, ровные.
Протискивали, видимо, сквозь окно. Изверги.
А само лицо тихое, ясное. Будто спит. Или отдыхает.
Мертв?
Мейзель рухнул на колени, прямо в битое стекло, попробовал нашарить сонную артерию – и наконец заметил, как расплывается под затылком Бланка медленная густая лужа.
Все вокруг стало черным. Серым. Белым. Неживым.
И только лужа была нестерпимо, невозможно алая.
Мейзель неловко приподнял голову Бланка – и, вляпавшись во что-то мягкое, пульсирующее, торопливо отдернул руку.
Затылка просто не было.
Голова Бланка тихо стукнулась о мостовую.
Еще раз.
Мейзель в ужасе смотрел на свои пальцы – испачканные мозговым веществом, яркой, еще совсем теплой кровью.
Он с трудом сглотнул рвоту – кислую, черную, сразу вставшую вровень с горлом.
И в этот момент Бланк открыл глаза.
Он был жив.
Глаза были живые. Просили о помощи. Не хотели умирать.
Мейзель знал, что делать. Приподнять голову. Подложить сюртук. Зафиксировать сломанную конечность. Но главное – остановить кровь. Это он умел уже. Не только пускать кровь. Останавливать – тоже.
Он был лучшим на курсе. Самые ловкие руки. Самая твердая память. Самая ясная голова.
Он никогда еще не видел таких ран, но Мудров – уж точно видел. Мудров справится. Соперирует. Наложит на череп пластину. Мейзель знал, что так делают. Сам не видел еще, но определенно читал. Надо позвать Мудрова. У него инструменты. В саквояже. И в кармане. Инструменты. Настойка опия. Корпия. Спирт. Шовный материал.
Omnia mea mecum porto .
Всё, что нужно, всегда носите с собой, коллега.
Приподнять голову. Остановить кровь. Позвать Мудрова.
Приподнять. Остановить. Позвать.
Мейзеля вдруг коротко, судорожно вывернуло – почти на Бланка.
Он еле откашлялся, давясь.
Руки не слушались, тряслись. Кровь на них застывала – чужая, липкая.
Застывал свет в глазах Бланка.
Он хотел сказать что-то, подсказать, наверно, – но не смог.
И снова не смог.
Только выпустил из краешка рта алую густую струйку.
Глаза его гасли постепенно, не торопясь, как вода под снегом. И не было в них ни страха, ни прощения – только презрение и жалость. Презрение и жалость. И еще – стыд. Стыд за него.
Мейзель медленно распрямился.
Обтер руки о сюртук. Расстегнул его наконец-то – пуговицы испуганно прыснули в стороны – врассыпную.
Приподнять. Остановить. Позвать.
Мудров вдруг высунулся из окна третьего этажа – растрепанный, страшный. Закричал – где доктор Бланк? Вы нашли его? Он жив?
Мейзель вдохнул глубоко-глубоко, как только смог – пытаясь протолкнуть воздух свозь ободранное рвотой горло.
Еще раз судорожно вытер руки – на этот раз о потную ледяную рубаху.
Кровь никуда не делась. Была на пальцах.
Он жив?! – прокричал Мудров еще раз.
И тогда Мейзель развернулся и побежал.
По переулку, по Сенной, еще дальше, дальше – задыхаясь, падая, снова поднимаясь, и все вытирал, вытирал руки – о себя, о стены, о грязную мостовую, снова о себя, пока не ссадил ладони и пальцы до мяса, и все вокруг него было черное, серое, неживое, кроме крови, и кровь эта была везде.
Везде, куда бы Мейзель ни бежал.

Две недели после холерного бунта Мейзель провел в ровном, жутком, непроницаемом небытии, словно на самом деле погиб в тот день на Сенной, – служа своему долгу, честно, вместе со всеми. Очнулся он вдруг, посреди мягкой, глухой, шевелящейся ночи – весь скукоженный, очерствелый, многоугольный от лютой похмельной боли – и долго брел в теплой пыли среди невидимых заборов, от одного недовольного собачьего бреха до другого, пока не понял, что все-таки в Петербурге, на самой его окраине, о которой прежде никогда и не слыхал.
Читать дальше
![Марина Степнова Сад [litres] обложка книги](/books/393426/marina-stepnova-sad-litres-cover.webp)

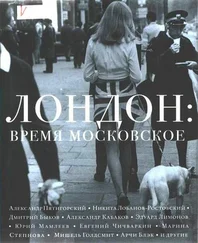







![Марина Степнова - Хирург [litres]](/books/431962/marina-stepnova-hirurg-litres-thumb.webp)