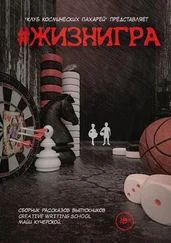Мейзель ждал того же – хоть и по другой причине.
Но Туся продолжала терпеть.
Мейзель не понимал – почему.
Она лишь однажды пришла к нему – ночью, прямо в комнату – и разрыдалась так, что Мейзель испугался. Туся всхлипывала, икала, тыкалась ему в шею и в грудь горячим мокрым лицом, и от нее несло таким тихим страшным жаром, что он заподозрил пневмонию, скоротечную чахотку, неминуемую смерть. Мейзель еле отцепил ее от себя, чтобы осмотреть, – но ни пальцами, ни ухом не уловил в грудной клетке ни одного опасного шума. Зато на предплечье левой руки, почти у локтя, обнаружился старый знакомый – не синяк даже, свежая, едва затянутая коркой ссадина. Ровно по линии бальной перчатки.
Все так плохо?
Туся даже ответить не смогла, только снова уткнулась головой куда-то ему под мышку.
Ну что ты, полно, полно! Успокойся. Хочешь, домой уедем? Вот прямо завтра с утра уложимся – и покатим? Дома хорошо. Горку на запруде зальем. На тройке кататься будем. Боярин твой, поди, от тоски уж повеситься пытался. Обрадуется тебе как – сама подумай!
Но Туся замотала головой – отчаянно, яростно даже – нет, нет, нет!
Она успокоилась только к утру, и Мейзель так и не понял – от чего именно. То ли от того, что он гладил ее и бормотал, как в детстве, всякую ерунду, то ли от того, что просто утомилась. А может, приняла решение. Но вместе со слезами улетучился и жар – истаял, словно его и не было.
Туся всхлипнула в последний раз, крепко шмыгнула носом и поцеловала Мейзелю руку. За окном было еще по-зимнему темно, но дом уже просыпался – шаркали в коридорах слуги, на кухне повар хлопал по запудренному мукой столу круглым охающим тестом, и то там, то здесь начинала гудеть, растапливаясь, голландская печь.
Прости, Грива. Устала немного. Все прошло. Ей-богу. Прошло, прошло – я не лгу. Мне бы гулять хотелось с тобой только. Как раньше. Хоть иногда. Это же можно? Ты устроишь?
И Мейзель вытребовал у графини право на ежедневную прогулку.
По давней деревенской привычке они всюду ходили пешком, изумляя петербуржцев, – старик в тяжелой шубе на седых бобрах и хмурая барышня в голубоватых переливающихся песцах, редких, драгоценных. Приличным господам пристало передвигаться на собственном экипаже. Мейзель привыкал к трости – пришлось все-таки купить к старости, которая нагнала его наконец, дернула настойчиво за рукав. Туся понемногу оттаивала, как оттаивал и сам город, – год неумолимо поворачивал к весне, в небе то там, то тут появлялись яркие проталины, даже вечный петербургский ветер, пронизывающий, лютый, вездесущий, и тот смягчился, потеплел.
Она подолгу засматривалась на лошадей – выезды в столице у многих были великолепные. Тысячные рысаки, роскошные кареты, сбруя в целое состояние. Была и своя мода: архиереи держали исключительно вороных жеребцов, очень густых, капитальных, с длинным низким ходом, богатое купечество ездило на гнедых мастях, а что уж говорить про гвардию. Туся как-то час продержала Мейзеля на холоду, любуясь парой огненно-рыжих кобылок, поджидавших хозяина у ресторана. Смотри, Грива, смотри – блесткие какие. И сухие, прямо необыкновенно. Как сразу видно породу, да? Арабские головы совершенно. Давай еще подождем, на ходу хочу их посмотреть.
Мейзель, замерзший, встревоженный, не видел ничего, кроме одержимости, и одержимость эта его пугала. Она словно каким-то образом была связана с детской Тусиной немотой, продолжала ее, усугубляла. Надвигалась, как чернота. Как тень неотвратимо наплывающего безумия.
Пойдем. Да пойдем же! Ты пальцы себе отморозишь! Не нужны? А в седле ты держаться как собираешься?
Увел все-таки. Слава богу!
Они много гуляли по набережным, изредка углубляясь в переулки, и Туся с изумлением обнаружила, что Мейзель недурно знает город.
Я думала – ты из Москвы, Грива.
Из Москвы. Но учился здесь, милая. Вот и помню кое-что.
Учился?
Да. В Медико-хирургической академии.
Туся, как все залюбленные дети, замечательно равнодушная ко всему, кроме себя самой, удивлялась на мгновение – и тут же забывала о Гриве и его прошлом. Щурилась – не то мечтательно, не то задумчиво, пряталась в ресницы, в муфту, щекотно раздувавшуюся от каждого вздоха. В Петербурге она подурнела. Жаль.
Мейзель вздыхал с облегчением – больше всего он боялся расспросов. Слишком многое пришлось бы вспоминать. Еще больше – объяснять.
В первую очередь самому себе.
Довольно скоро он понял, что их прогулки не случайны, а имеют какую-то цель, которую Туся упрямо не желала ему назвать. Они кружили по одним и тем же улицам, заглядываясь на угрюмые фасады, аляповатые вывески. Иногда Туся подолгу смотрела на номера домов, словно пыталась угадать что-то.
Читать дальше
![Марина Степнова Сад [litres] обложка книги](/books/393426/marina-stepnova-sad-litres-cover.webp)
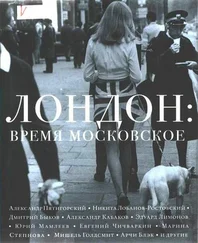







![Марина Степнова - Хирург [litres]](/books/431962/marina-stepnova-hirurg-litres-thumb.webp)