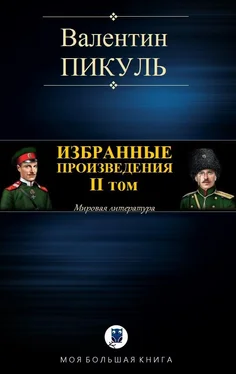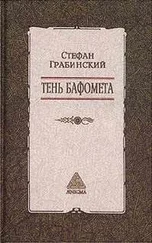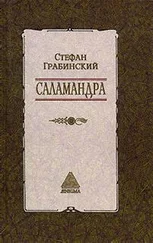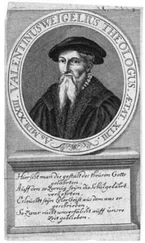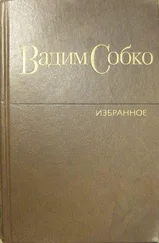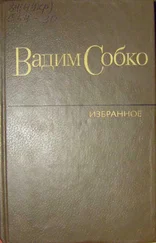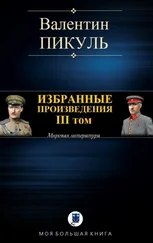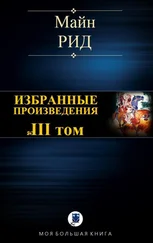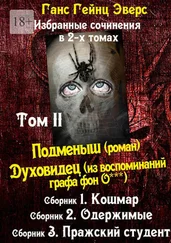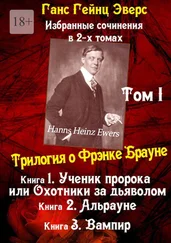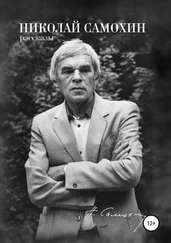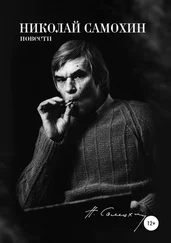— Если говоришь неправду, — заявил он ей, — ты умрешь от этого страшного яда. Но скажи правду — и останешься живой.
Женщина с ужасом в глазах указала рукой на юг.
— Либо ие унто (есть ли там хлеб)? — спросили ее.
— Ие (есть), — тихо отвечала она.
Крокодилы в реке Омо, еще никем никогда не пуганные, совсем не боялись людей. Войска раса вступили в страну изобилия, где среди кукурузных полей бродили стада рогатого скота и ослов. Наконец, пленные показали, что до озера два дня пути. Сразу забили литавры, заиграли на дудках. Здесь жило неизвестное племя хромых мужчин, у которых были подрезаны поджилки ног.
Александр Ксаверьевич сообщил Георгиесу:
— Я не понял с их слов, кто наказал их вечною хромотою, но реку Омо они называют Няням… Сейчас твои воины, о великий непобедимый рас, радуются, что их «привели в хорошую землю». Будем же радоваться и мы тому, что могучий «царь царей» (негус-негести) вывел Абиссинию к озеру Рудольфа.
Булатович однажды поджаривал на ужин мясо на ослином жире, когда в палатку к нему воины раса внесли мальчика — всего в крови, жестоко истерзанного лесными дикарями.
— Мы нашли его в камышах, — сказали воины, — он лежал возле воды. Судя по всему, ни отца, ни матери он не знает…
С трудом залечив раны мальчика, Булатович испытал к нему трогательную нежность и сказал Залепукину:
— Я назову его Васькой… будет он Василием Александровичем, и пусть он станет для меня родным сыном.
На голове «сыночка» он остриг два вшивых пучка волос, снял с его шеи нитку глиняных бус, средь которых торчали два крокодиловых зуба. А на картах Африки, там, где находится залив Лабур, выступающий в синеву озера Рудольфа, вскоре появилось новое географическое название — Васькин мыс, знай наших!.. По возвращении Булатовича в Аддис-Абебу «царь царей» наградил его высшим отличием воина — золотым щитом и золотой саблей, а русский посол Власов, что-то хмыкнув, вручил телеграмму:
— Военное министерство спешно отзывает вас на берега Невы, и я подозреваю, что вас ожидают некоторые неприятности…
19 июля 1898 года Александр Ксаверьевич был уже в русской столице, одетый строго по форме, и, вызывая удивление прохожих на Невском проспекте, он вел за руку чернокожего мальчика. Знакомым он очень охотно представлял своего Ваську:
— А вдруг он станет Ганнибалом, и в его потомстве обнаружится новый великий поэт, каков был наш Пушкин?
Удивительно быстро он написал солидную монографию о неизвестных окраинах Абиссинии, снабдив ее картами, и научный мир России сразу признал его заслуги, зато вот военная клика, живущая под аркой Главною штаба, встретила фурор Булатовича с откровенной неприязнью, а Николай II даже запретил ему носить золотое оружие. Надо полагать, генералов раздражало своеволие гусара, вдруг ставшего военным советником Менелика II по выбору самого негуса, а не по приказанию царя.
Но поручик Булатович вскоре… пропал!
Забеспокоились друзья, заволновались женщины, давно и безнадежно в него влюбленные, журналисты обрыскали все притоны столицы и нашли Булатовича в мрачной келье Афонского подворья — в грубой рясе послушника он постигал истины Ветхого и Нового Заветов, готовясь к монашескому пострижению.
— Оставьте меня, — сказал он ищущим его, — я ушел из вашего мира, дабы обрести мир иной… ближе к Богу!
Никто не мог объяснить поступок Булатовича, который от гусарской лихости и науки вдруг обратился к духовному подвижничеству, чаящему откровения свыше. А старые гусары только посмеивались:
— Вы, профаны, еще не знаете нашего «знаменитого Сашку»! Кто же поверит в его смирение, ежели под рясой отшельника стучит бравурное сердце лихого гусара?..
Булатович принял пострижение с новым именем отца Антония и очень быстро (опять-таки быстро!) выдвинулся в иеросхимонахи Никифоро-Белозерского монастыря, известного очень строгим, почти тюремным режимом. Лишь однажды (в 1906 году) его жизнь была нарушена поездкой в Аддис-Абебу, куда он отвез Ваську, возросшего на русских хлебах, но вдруг затосковавшего по своей родине. Скорее всего, эта поездка была очень далека от «родительской» лирики, ее, пожалуй, лучше считать секретной командировкой — не «из-под арки» Генштаба, а от Певческого моста столицы, где располагалось министерство иностранных дел. После этого визита в Авдис-Абебу Булатович с ангельским смирением вернулся в монастырь, и о нем постепенно забыли.
Так тянулось время в бдениях и молитвах до самого 1911 года, когда забили тревогу в Департаменте тайной полиции:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу