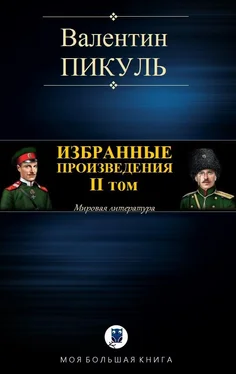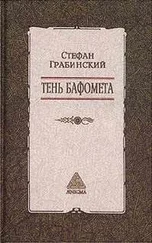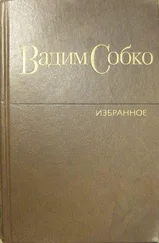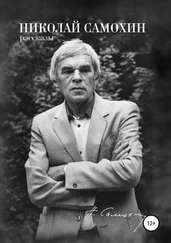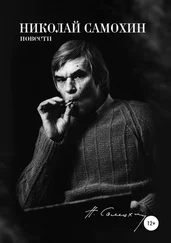«Псковский г-н Ф. М. Плюшкин вполне оправдывает свою знаменитую фамилию», — острили журналисты в газетах, и это очень обижало Федора Михайловича, который жене признавался:
— Все бы оно ничего, да уж больно мне господин Гоголь подгадил… фамилией! Собираю я вот всякую мелочь от времен стародавних, а люди-то глядят и смеются, подлые: «Во, Плюшкин-то, мол… сразу видно, с кого все крохи побрал — с Гоголя!»
Марья Ивановна распивала чаек из чашки, когда-то украшавшей сервиз Екатерины I, она черпала вареньице ложечкой шведской королевы Христины, а над ее кокошником с головы боярышни Милославской красовался пейзаж работы Пуссена. Домашний уют г-жи Плюшкиной щедро освещала старинная люстра из усадебного дома генералиссимуса А. В. Суворова.
— Не журись, Феденька, — отвечала она. — На всякий роток не накинешь платок. Иные и хотели бы иметь такой дом — полная чаша, да не могут — кишка тоньше нашей.
Между тем Плюшкин не просто собирал старину, он самоучкой развился в большого знатока истории. Псковский купец, он вдруг заявил о себе уже серьезно, вполне научно, когда вмешался в грубую реставрацию знаменитых Поганкиных палат, документами из своего собрания доказав археологам, что они делают крыльцо не псковского, а московского типа:
— Эдак вы, господа хорошие, историю искажаете! Да-с. Вы уж извините, но безграмотности я не потерплю.
Как и предсказывал юродивый, иногда к Плюшкину являлся дядя Николай и, терпеливо покашливая у порога, ожидал милостыни — Христа ради и ради хлеба насущного. Получив от племянника пособие, старик, давно разорившийся, сумрачно и почти враждебно оглядывал музейные покои, говорил без зависти, но зато с каким-то угрожающим сожалением:
— Ох, высоко залетел, Федька… гляди, свалишься!
— Залетел, верно. Однако не выше второго этажа. Мне бы и третий надобен, чтобы все собранное разместить…
Плюшкин был сравнительно молодым, когда стал членом Псковского Археологического общества, в которое принимали людей только знающих; человек большого добродушия и щедрый, Плюшкин по праву стал попечителем детских приютов для сирот и подкидышей. Двери своего хранилища он держал открытыми, осмотр сокровищ дозволял без платы за вход, а экскурсоводом выступал сам хозяин, каждой вещи, каждой картине и любому предмету Федор Михайлович давал точное определение, даже не скрывая, как и когда эти вещи ему достались.
— Здесь вы видите атрибуты масонства, принадлежавшие императору Павлу Первому… в этом же ларце собраны драгоценные перстни и старинные пуговицы, иные весом в полфунта. А вот дамские камеи эпохи Наполеона, тут же обратите внимание на коллекцию вееров с рисунками в духе Ватто и собрание табакерок — золотых, фарфоровых, перламутровых, а эта вот выточена из слоновой кости… Пройдемте далее. Перед вами бранные доспехи русских витязей, щиты и шлемы времен Ледового побоища. Обращаю ваши взоры на собрание древних монет Пскова, каких нет даже в императорском Эрмитаже, иные монеты оправлены черепаховой костью. Здесь, дамы и господа, образцы русской народной вышивки, душегрейки и сарафаны, украшенные бисером, а вот набор кошельков наших пращуров… Наконец, мы узрели серию разбойничьих кастетов. А в углу комнаты поникло знамя Наполеона и разложен английский платок с изображением московского пожара. Прошу удивиться прекрасному лунному пейзажу, сделанному из селедочной чешуи… Сие есть работа каторжников!
Посещавшие музей Плюшкина всегда изумлялись тому, что японские и китайские вещи Федор Михайлович приобрел для своего музея, никогда не бывав ни в Японии, ни в Китае.
— Да как же вам это удалось? — спрашивали его.
— А сам не ведаю… Ведь тут, не забывайте, проживали разорившиеся дворяне, от них много чего осталось. А ежели покопаться в бабкиных сундуках… у-у-у, чего там только нету! Но она добро тебе покажет, ничего не продаст, сундук захлопнет и сама на него сядет. Тут, на Псковщине, благо она к рубежам близко, ныне появились наезжие из Европы комиссионеры — скупают все подряд, и все то, на что мы сейчас поплевываем, за границей весьма высоко ценится. Вот и собираю редкости в свой музей, как в сундук, и сижу на собранном, словно бабка, а может, после моей кончины соотечественники и скажут обо мне благодарственное слово.
Подлинный коллекционер, вкладывая в собрание всю свою душу, Федор Михайлович никогда не посмел бы задуматься о продажной ценности своих уникальных сокровищ.
— Не считал гроши, когда покупал, а посему стыдно рубли считать для продажи, — говорил он. — Я ведь, милые мои, в гроб с собою все это не заберу — и пусть все, мною собранное, и достанется русским человецам… на память обо мне!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу