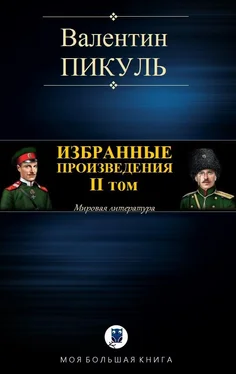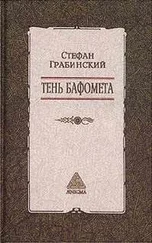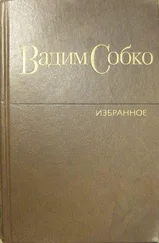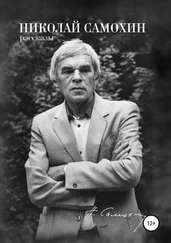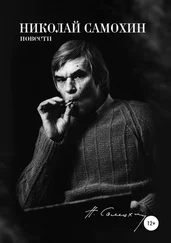Василий Лукич кликнул братца, заперли они двери. Поставили перед собой вина доброго, положили двух зайцев сушеных. Долго крестились кузены на киот. Дружно сели.
— Ну, — сказал «маркиз» Лукич, — тепереча, Алешка, потолкуем. Кого мы сразу жрать станем, а кого на потом оставим?
— Теперь-то нас, — возрадовался отец невесты, — никакой Сенат уж не сшибет! Долгорукие в полную честь войдут да всех врагов изведут под корень… Начнем с Голицыных, пустозвоны оне! С утра все звонят, звонят, звонят. А на селе Архангельском, где мудрят всего более, мы с тобой псарни разведем.
Село Архангельское — вотчина подмосковная. Под деревьями — старая домина в три сруба, сенцами связана. Окна там — в переплетах свинцовых. А внутри дома — четыре стула поставлены. Вот и все… Хозяин усадьбы, князь Дмитрий Михайлович Голицын, давно немолод, телом сух, долгонос. Взор его с огоньком, голос тихий, но вдруг как рыкнет:
— Эй, баба! Беги к ручью да скорей умой дите свое — у меня глаз дурной, и ты, баба, меня всегда бойся…
Старины крепко держится. В доме без слова божия никто и зевнуть не смеет. Пока не сел князь Дмитрий — все домочадцы стоят. Муха пролетит — слыхать. «Садитесь», — позволит, и все разом плюх на лавки. А из двух братьев верховника (оба они — Михаилы, старший и младший) на стул только старший брат Миша сядет, потому что он давно уже Российской империи фельдмаршал.
Князь Голицын был поклонником духа русского. Однако в доме его часто слышалась речь иноземная — от лакеев князя. Секретарь Емельян Семенов и комнатный слуга Петя Стринкин были людьми учеными, по-латыни читали и изъяснялись. Образование в людях высоко чтил князь Дмитрий Михайлович, а рассуждал он таково:
— Немцу на Руси делать нечего. Немцы у себя дома сами-то не способны порядок навести. И нам затей европейских не надобно. Почему не жить нам как живали отцы и деды? Стыдно мне! По указу Петрову немец без разума вдвое более умного русского был жалован — чинами и денежно.
Когда же загибали перед ним пальцы: вот то хорошо от Петра, мол, вот это неплохо… — то князь Дмитрий снисходил.
— А я новому не противлюсь, — говорил тихо. — Коли хорошо оно, это новое-то! Надобно, судари, из русских условий, яко алмазы из недр, законы русские извлекать…
Боялись князя многие: как бы не сглазил. Всего четыре стула в доме его, а книг — семь тысяч. Куда столько? Но Василий Никитич Татищев, сам книгочей и любомудр, ради книг и приехал в Архангельское. Ныне он при Монетном дворе состоял, в науках знаток и нравом пылок… Дмитрий Михайлович секретаря позвал, перед Татищевым рундуки открыли, книгами хвастали.
— Еще когда на Киеве губернатором был, — говорил князь, — переводил с диалектов чужих. Сам-то я в языках иноземных мало смыслю, зато школяров киевских при себе содержал. Ели они в доме моем, пили и гадили. Терпел пакость эту, ибо школяры те знатно книгам переводы учиняли… Ну-ка, Емеля, покажи гостю!
Емельян Семенов — без парика, в кургузом распахнутом кафтанчике, с пером за ухом — любовно перебирал библиотеку:
— Вот и Макиавелли, и Пуффендорф… Это Гуго Гроция, Локк да Томазия несравненный — у нас все есть в Архангельском!
На каждой книге у князя был особый ярлычок приклеен, чтобы не украли такие вот гости, как этот Татищев: «Ех bibliotheca Archangelina». Василий Никитич — жадно и цепко — полистал синопсисы да хронографы. Голицын на сундуке сидел.
— Не токмо книгу читаю, — сказал он, — но и мыслю я! Оттого-то и не жду дня светлого. Вот кабы царям воли убавить! Хорошо было б, Василий Никитич… Одни временщики, сам ведаешь, чего стоят. Не помяни ко сну Малюту Скуратова да Басманова Данилу! А еще и пришлые: Монсы да Сапеги, Левенвольды да прочие… Раньше мы хоть пришлых не знали.
Татищев прищурился — хитер он был, зубаст:
— Что-то, князь, вы Генриха Фика не помянули?
Старик Голицын с силой задвинул сундук в угол:
— Генрих Фик — камералист [1] Камеральные науки — науки о государственных доходах.
известный, конституций европских толкователь. При дворе шведском в шпионах; наших бывал и великую пользу принес России. Поболе бы нам Фиков таких иметь…
— Помянем еще братца вашего, князя Василья Голицына, что при царевне Софье успех немалый имел, — подольстил Татищев.
— Един он был, — отвечал верховник со вздохом. — Петр не знал его доброго сердца. Но я — чту! И когда-либо Русь еще помянет князя Василия добрым словом… Нет, не временщиком был подлым мой братец, а — головой Руси и мужем зрелым!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу