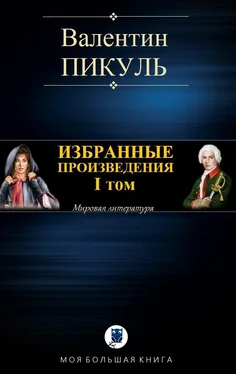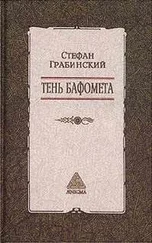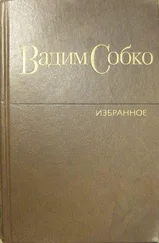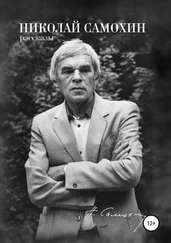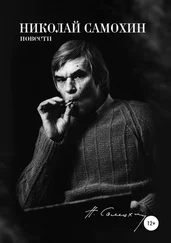После минера замполит взялся за меня. На бумажке он подсчитал, сколько я, сукин сын, съел и сносил за время службы, во сколько обошлись государству мои педагоги и прочее. Когда он закончил роковой подсчет, я понял, что мне не выбраться из долгов до смерти. Тут я не выдержал и разревелся. Но замполит был мужчина с характером и слез моих вытирать не стал.
— А для чего, ты думаешь, тебя учили? — говорил он. — Чтобы ты, на эсминцы придя, казенный спирт хлебал? Это возмутительно, товарищ юнга… Как ты себя ведешь? Дай адрес отца, мы напишем, что его сын не оправдал доверие Родины и комсомола.
— Нет у меня отца, — ответил я. — Погиб мой папа.
— Тогда адрес матери.
— Мама на кладбище… в Соломбале!
Замполит отбросил карандаш и порвал свои расчеты.
— Послушай, друг! А кто же у тебя есть?
— Бабушка. Она в Ленинграде…
— Ну, бабушку мы беспокоить не станем. Пускай не тужит. А ты должен служить так, чтобы загладил свой проступок… Осознал?
Офицеры не стали раздувать этой истории. Дрябин же был наказан. От тех времен у меня сохранилась его фотография, которую он мне подарил по возвращении с гауптвахты. «Моему лучшему другу на память о героических днях обороны Заполярья от подлых врагов!» — так начертал он на карточке. Дрябин был лучшим минером эсминца, и сейчас его портреты можно видеть в монографиях по истории Северного флота. Фотокорреспондент запечатлел его на крыле торпедного аппарата! Он был человек недалекий, но мужественный и добрый… Под конец войны он ослеп при случайной аварии, и я под руку отводил его в экипаж на оформление демобилизации.
Прощаясь, он меня крепко обнял и заплакал:
— А помнишь, Савка, как мы с тобой… Ох и шипели тогда на нас! Да-а, было времечко — не вернешь. Девять лет жизни — флоту! Все девять на эсминцах. Кусок большой, а?
* * *
Мое дело в этой войне — маленькое, но важное. И я уже вполне дорос до понимания своей великой ответственности. Что я могу сделать для победы, я, конечно, сделаю. Если суждено погибнуть, я погибну. Так я решил сразу! Потому и отношение мое к тому ватнику, который мне выдали, было таким, какое, наверное, испытывали юные рыцари, впервые влезая в боевой панцирь для турнира. Мне выдали теплое белье, стеганые штаны, сапоги для шторма и валенки для мороза. Получил под расписку, как особо ценное снаряжение, и «лягушку» — спасательный жилет, надеваемый вроде парашюта; из нагрудника торчали резиновые трубки с пробками для надувания жилета воздухом. Наконец меня включили в боевое расписание «Грозящего». Кузбасским несмываемым лаком на кармане моей голландки отпечатали мой личный боевой номер из пяти цифр. С этим номером мне воевать! Если меня прибьет волной к берегам Родины, этот номер расскажет, кто я такой, в какой БЧ числился, на каком посту сражался, после чего по спискам флота легко установить мою фамилию. Напишут бабушке: «С прискорбием сообщаем, что юнга С. Огурцов пал смертью храбрых в боях…» Такой же номер был пришит и к кокону моей пробковой койки, которая способна держать человека на воде целых двадцать минут, если, конечно, я правильно ее уложу и свяжу потуже…
Между тем старшина Курядов на меня даже малость обиделся: Огурцова из гиропоста хоть за уши вытаскивай! Старшина Лебедев говорил в оправдание Курядову:
— Ну что ты, Вася! Мальчишка-то интересуется… Не гнать же его. Не просто глазеет, а разбирается…
Лебедев казался мне ужасно умным. Холя свои роскошные усы, он давал точный ответ на любой мой вопрос. Гирокомпас в Школе юнг стоял холодный и неподвижный. А здесь его наполняло тепло напряженной работы, которой он жил, трудясь ради нашей победы. Большая разница! В движении я быстрее понял взаимосвязь деталей, лучше осмыслил электросхему «аншютца». Я даже удивился, когда старшина Лебедев сказал мне, что до службы на флоте он был в Москве видным кондитером — готовил торты для дипломатических приемов в Кремле. От тортов до «аншютца» — расстояние немалое, и я еще больше стал уважать старшину за его знания…
Штурман эсминца Присяжнюк, этот горбоносый чистюля, аккуратный блондин лет тридцати, время от времени звал меня к себе. Давал читать «ПШС», устраивал беглые опросы по теории. Без внимания меня не оставляли… Однажды ближе к вечеру мое имя выкликнули:
— Где здесь юнга? Его «смерш» вызывает…
Честно говоря, у меня ослабли руки и ноги. И хотя заподозрить меня было не в чем, прежняя встреча с особистом на Соловках оставила в душе неприятный след. А тут еще матросы хохочут.
Читать дальше