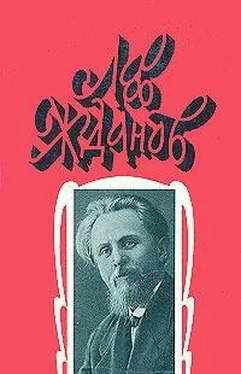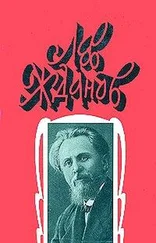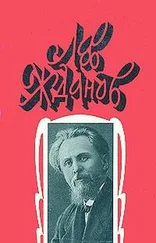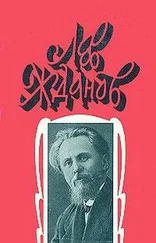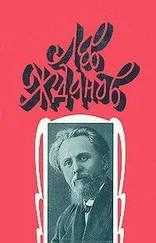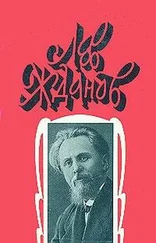Озабоченный и хмурый более обыкновенного, медленно, как больной, бродил весь день Совиньский по коридорам и классам, так же часто и тревожно поглядывая на стрелки часов, как делали это юноши.
Очевидно, условленное время настанет и совершится неизбежное! Совиньский это понимает, как настоящий поляк, бескорыстный, глубокий патриот. Но он же знает и жизнь… И боится смертельно!.. Не за себя, за своих «мальчиков»… И бродит, постукивая деревяшкой, и ждет…
Наконец дождался.
Около семи часов, когда, как нарочно, почти все подхорунжие собрались в большом гимнастическом покое, зазвучал тревожный набат с ближней колокольни… Улица наполнилась движением, шумом, как бывает при пожарах, но более грозным и широким…
Вслед за этим — выстрел, другой, третий, с промежутками, издали, но явственно прорезали ночную темноту и общий уличный гам…
К окнам кинулись сперва подхорунжие, потом сгрудились посреди зала, вокруг Джевецкого, который, поднявшись на тяжелый высокий табурет, громко заговорил:
— Вот она, счастливая минута, товарищи… Отчизна зовет! Слава или смерть нас ожидает… Оружие в руки!.. И туда, туда поспешим, товарищи, где гибнут наши братья в надежде на лучшую участь для родной земли, в ожидании нашей помощи. Не обманем же надежды гибнущих, не предадим отчизны… За оружие и в бой!..
— Да живет отчизна!.. За оружие… в бой, — как из одной груди вырвался громкий ответ толпы, кинулись к дверям, но там стоял, выпрямясь во весь могучий рост, сам Полковник.
Невольно толпа остановилась, скипелась в клубок, словно собираясь с силами для трудного шага… Лица, возбужденные, восторженные перед тем, потемнели, побледнели, стиснулись зубы, сжались кулаки у многих, как будто они вели внутреннюю борьбу с самими собой…
Ждали все окрика, грозы, помехи, нестерпимой по своей властности и правам… И готовились, даже против собственного желания, дать резкий отпор любимому наставнику.
Вдруг произошло нечто неожиданное.
— Дети мои… на минутку… Остановитесь!.. Выслушайте меня, дети мои, — прозвучал, задрожал по залу мягкий, ласковый, полный тоски и слез, знакомый голос из широкой, сильной груди, которая сейчас ходуном ходит, как руки, как все тело, как деревяшка старика, выбивающая легкую, прерывистую дробь на вытертой доске некрашеного пола…
Ушам не верят люди. Он не грозит, не бранит, не пугает… Он — молит… Растерялись все буквально, стоят недвижно, молчат, словно хотят освободиться от тяжелого, внезапно налетевшего сна.
А этот умный старик не дает им очнуться, себе дал волю, сердце своему, затаенным глубоко, лучшим, нежнейшим чувствам… И снова говорит, показывая им на свое залитое слезами лицо:
— Смотрите!.. Вы знаете меня давно… Я не плакал, когда смерть царила кругом, когда меня поразило ядро и резали мое тело… Я не плакал, когда другим приносил смерть и мучения… А как я люблю людей, как жалею их… как ценю жизнь, — вы знаете тоже!.. И… вот я плачу при одной мысли, что вы можете не послушать меня… уйти сейчас… Наконец, подумайте только, что вы хотите делать?! Знаете ли, что вас там ожидает?..
— При удаче — это назовут революцией, — решительно заговорил Джевецкий. — Мы получим… если не портфель военного министра, так следующих два чина не в зачет… А при неудаче…
— Вот-вот!.. При неудаче, дети мои… Подумайте…
— Нашу попытку, разумеется, назовут мятежом… нас расстреляют. Вот и все…
— Так, значит, вы понимаете, лучше будет…
— Если мы добьемся удачи, наш старый, добрый друг… Идемте.
— Постойте… молю вас… Послушайте меня… Ничего хорошего не будет!.. Придется гибнуть даром!.. Да, даром! И я вместе с вами хочу, чтобы все хорошо кончилось для дорогой отчизны… Я не лгу… Но Бог ведает, как оно кончится… Ваши руки не повернут колеса судьбы… Ваша кровь не будет последней каплей на весах Небесного Правосудия… И может пролиться напрасно… И я осиротею… Нет, не то!.. Осиротеют ваши бедные матери, отцы… Опустеют гнезда, где вас растили, берегли… А я, которому поручили вас?.. Я не сумел, скажут, сберечь молодые жизни… Пустил вас на гибель… Потому еще раз прошу, погодите!.. На коленях прошу вас…
Стукнула глухо деревяшка, выпал из руки костылек, на который постоянно опирается генерал. На колени неловко, сразу, в первый раз за всю жизнь опустилось это сильное тело, поникла прекрасная гордая голова.
Десятки рук мелькнули, со всех сторон кинулись подымать Совиньского. А он, поднявшись, вдруг заговорил твердо, властно:
Читать дальше