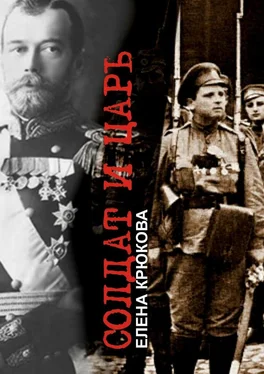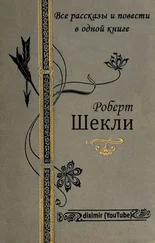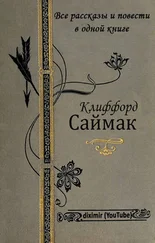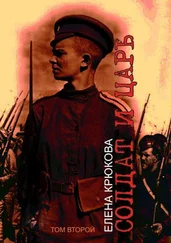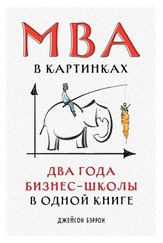…ночью, когда она переставала ворочаться за стеной в своей комнатенке – он слышал, когда кровать скрипеть переставала, – он, босой, в подштанниках, вставал с койки, выходил в коридор и клал руку на медную ручку ее двери.
Дверь всегда была закрыта.
Он приближал губы к щели. Налегал щекой на крашеную холодную доску. Шептал – что, и сам не знал. Не сознавал. Слова лепились сами и обжигали губы. А потом слова умирали. Вместо них изнутри поднималась пылающая тьма, он горел и гудел, как печь, и, молча проклиная и себя и Пашку, ломал дверь.
Но двери в Доме Свободы были сработаны на славу. Крепкие. Старые.
Однажды он так вот ломился к ней – и вдруг замер, ополоумел: почуял, что она стоит за дверью.
Слышал ее дыхание. Или так ему казалось. Чувствовал идущее от досок, сквозь щели и притолоку, легкое сладкое тепло.
Там, за дверью, она стояла на полу в мужских подштанниках и бязевой мужской рубахе, дрожала, глаза ее горели в темноте, как у кошки, и она, как и он, положила ладонь на медную, круглую дверную ручку.
Он прижимался к мертвой двери всем телом: пусти! Пусти меня!
Она стояла и тяжело, быстро дышала. Она тоже ощущала его тепло, его бешеный жар.
Да над ними и так уже все бойцы потешались. Ей так прямо командир Матвеев и сказал: если вы с Мишкой тут слюбились – так, может, вам и из Красной Армии вон уйти? Идите, семью обоснуйте. А тут все серьезно. А вы! Порочите честь красного воина!
– Пашка… Пусти… Пусти…
Презирал себя; и жалко становилось себя.
За досками, за тонкой деревянной загородкой, за слоем масляной краски и паутиной в щелях, стояла женщина и тоже наваливалась всем горячим, под вытрепанным за всю войну бельем, крепким поджарым телом на стену, на дверь. Беззвучно стонала. Кусала губы. Уже отжала защелку. Уже поворачивала ручку. Вот уже повернула. И отшагнула: входи! Ну! Давай!
…он налег рукой на дверь – она подалась. Приотворилась.
И его окатило изнутри кипятком, а потом будто бы всего, как святого мученика, взяли да в смолу окунули.
И так, кипящий, жалко дрожащий, стоял.
Опять притворил дверь.
И опять чуть нажал, и чуть отворил.
И еще раз закрыл.
И стоял, и горячий пот тек по лбу, закатывался за уши.
И снова нажал, и… не подавалась дверь, не поддавалась…
…она, с той стороны, защелкнула задвижку.
И, без сил, опустилась перед дверью на колени и уткнулась лбом в замазанную белой масляной краской сосновую доску.
…Снег чертил за окнами белые стрелы.
Снег бил и бил в ледяной бубен земли, а она все никак не могла станцевать ему, жадному и настойчивому седому шаману, свой нежный посмертный танец.
Снег шел, летел, а Николай сидел перед окном и не задергивал шторы.
Он смотрел в темное, расчерченное белыми полосами стекло своими огромными, серо-синими, речными глазами, и взгляд бродил, туманясь и изредка вспыхивая тоской, запоздалой жалостью, тусклым огнем близкой боли.
Перед царем на столе лежали газеты. Много газет.
Его еще не лишили этой скорбной радости – знать, что происходит в мире.
В его мире? Нет, мир больше ему не принадлежал.
И он прекрасно, хорошо и ясно теперь понял Христа: нет в мире ничего, за что стоило бы зацепиться – мыслью, властью, лаской. Все принадлежит небу и смерти. Все. И все равно, что будет там, потом: а значит, все равно, что происходит здесь и сейчас.
Но ему причинял неизлечимую боль отнятый у него мир. Отобранная у него земля. Его страна, оставшаяся одна, без него, по-прежнему печатала газеты, стригла людей в парикмахерских, продавала помидоры на рынках, войска стреляли во врага, только враг образовался не снаружи, а внутри. И враг говорил по-русски и воображал, что именно он и есть Россия.
Он читал газеты, бумага шуршала и жестяно скрежетала в его руках, и он закрывал глаза над свинцовым мелким шрифтом от боли и ужаса: он видел, вспоминая, как разгоняют Учредительное собрание, как власть берет Временное правительство; и как эти странные жестокие люди, что называют себя большевиками, тянут власть, как канат, на себя, тянут, грубо рвут из рук – и перетягивают, и вгрызаются зубами в лакомую кость, что раньше была его троном, его честью и его упованием.
Ленин наверху. Под ним тучи людей; они не личности, они приблуды. Урицкий приходит разгонять Учредительное собрание, а сам дрожит – с него по пути сдернули шубу. Грабители, разбойники на улицах, и разбойники во дворцах – а какая разница? Все равно, кто снял шубу с тебя: большевик или бандит. У Ленина своровали из кармана пальто револьвер. Ленин, Ленин, лысый гриб боровик, говорливый самозванец, где твое оружие? Воры! Воры! А вы сами разве не воры? Разве вы не своровали у царя его страну?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу