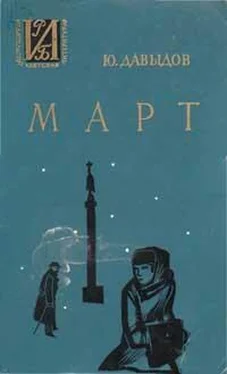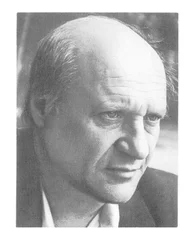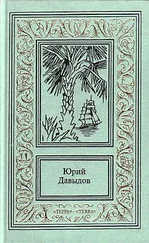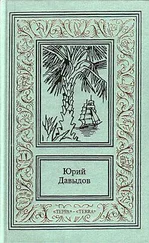Александр поднялся с тем чувством обновления, какое бывает после бритья, и предоставил себя камердинеру.
Пришел Лорис-Меликов, доложил, что в девять утра градоначальник собрал у себя на квартире полицмейстеров и приставов.
– Он передал им ваше, государь, совершенное удовольствие деятельностью полиции.
– Пусть стараются, пусть стараются, – заметил император точно таким тоном, каким он говорил Молле о своих усах. И взглянул на карманные английские часы. – Пора. Не люблю, когда меня ждут.
Но Лорис-Меликов не двинулся с места: он опять, как вчера, ждал. Он смотрел на Александра темными, чуть маслянистыми глазами, смотрел, не смаргивая, не опуская тяжелых коричневых век.
– Ах, это… – сказал Александр с досадой. И добавил с оттенком хмурого лукавства, словно бы вывертываясь из Лорисовых рук. – Да, непременно передам Валуеву.
Император втайне надеялся, что председатель комитета министров из личной неприязни к «диктатору» отыщет какие-либо причины для проволочки с публикацией правительственного извещения. Александр знал: у Лориса с Валуевым небольшие разногласия относительно созыва представителей, они скорее единомышленники, нежели противники. Но Александр знал и другое: когда нет гласности, когда дела решаются келейно, когда годами дышат дворцовой атмосферой, личные отношения – весьма солидная гиря на чашах государственных весов. И потому надеялся на Валуева.
Повидавшись с Петром Александровичем и почему-то совершенно уверовав в его помощь против настояний Лориса, император вновь обрел отличное расположение духа.
В сенях его, по-обыкновению, провожал министр двора. «Да, и пыткою!» – вспомнилось Александру.
– Послушай, – доверительно сказал он Адлербергу, – я думаю, арест этого Желябова будет иметь большие последствия. – И повторил значительно, весело, с удовольствием: – Бо-ольшие последствия, граф!
Сине-черная с золотом карета, казаки верхами на терских жеребцах, полковник Дворжицкий и начальник охраны капитан Кох поджидали у Комендантского подъезда.
Едва показался государь, ординарец Кузьма, быстро перебирая кривыми кавалерийскими ногами, выбежал из-за спины его, нажал золоченую ручку, и дверца с большим зеркальным стеклом отворилась бесшумно и плавно.
Император, садясь в карету, ощутил упругую силу рессор, чуть подавшихся под тяжестью его крупного тела, бодро бросил кучеру:
– Через Певческий мост – в манеж.
* * *
Воскресный завтрак (петербуржцы говаривали «фрыштик», грубо ударяя на «ы») был позднее будничного. А ближе к полудню петербуржец совершал прогулку, променад по Невскому.
Первого марта, когда в город забрел шалый ветер и веская капель защелкала звучно, Невский был полон. Дамы в модных шляпках из магазина Мюнкса, фаты в английских цилиндрах из магазина Друса, студенты, разговаривающие слишком громко, и конторщики, разговаривающие слишком тихо, чиновники, офицеры – вся эта публика, в шинелях, в пальто с бархатными воротничками или в непромокаемых макинтошах, шаркала, кланялась, щурилась, посмеивалась.
Бойко щелкала капель, форсисто цокали лошади по мостовой, все смотрело празднично. Невский был полон, на Невском держался смешанный запах одеколона, недавно выглаженных брюк, конского пота и сырых торцов.
Ресторация Андреева, против Гостиного двора, помещалась в полуподвале. Перовская сидела в ресторации с Гриневицким и Рысаковым.
Софья была спокойна. Она не знала, откуда взялось спокойствие, но оно «взялось», когда она вышла из Гесиной квартиры на Тележной и вдруг вспомнила, что в народе первый мартовский день зовут «Евдокией-свистухой» или «Евдокией – подмочи порог».
После ареста Андрея Софья не была дома. Не потому только, что показаться там значило налететь на полицейскую засаду, но и потому, что дом этот больше не существовал для нее. Нет, она ни за что не переступила бы порог комнаты, где прожили они несколько месяцев. Вместе прожили… Вместе до прошлой пятницы… А в прошлую пятницу в сумерках они взяли извозчика и по Большой Садовой доехали до Публичной библиотеки. Андрей спешил к Тригони. Они расстались у стены с потрескавшейся штукатуркой и водосточной трубой, под которой рыжело пятно. И он не вернулся…
Минувшей ночью Софья была у Геси, на Тележной. Они не говорили о мужьях – ни о Николае, ни об Андрее. У Геси по сторонам пробора – седые прядки. Геся на сносях; она молчалива, у нее тяжелая походка, одышка. Они почти не спали минувшей ночью. Окаянно тикали часы. В темноте взмахи маятника чудились взмахами маленькой острой секиры – все ниже, все ниже, у самого горла… Как в каком-то рассказе о китайских казнях.
Читать дальше