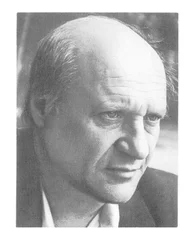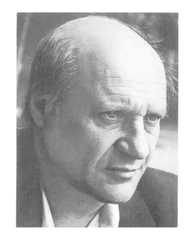Глеб Иванович и самому себе не смог бы в точности сказать, где и когда он впервые ощутил эту гнетущую охоту к перемене мест.
Смолоду он месяцами находился в пути. Он познавал Россию! Промозглые полустанки, проселки, пьяный скандал за стеной в какой-нибудь провинциальной гостинице, дрянную снедь в каких-нибудь «Грезах Лиссабона» – все это он принимал как неизбежность.
Исподволь, в неуследимые дни поездки стали чем-то похожим на гон. Не грешник, гонимый бесами, и не облако, гонимое бурей. Нет, не гонялый зверь, поднятый с логова еще до того, как его вспугнет своим заполошным гамом охотничья свора. Как и прежде, наблюдал, размышлял, писал, но и наблюдал, и размышлял, и писал, словно бы дрожа нервной дрожью. Его мотало по России в поисках светлых, гармонических мотивов российской действительности. Он искал и не находил, он был гонялым зверем. И потому согласился на краткую беспачпортную отлучку.
И вот он увидел город, теснившийся к берегам Золотого Рога. Славны бубны за горами. Толчея, вонь, раздрызганные конки, шайки шелудивых псов. И вавилонщина, ничего не поймешь.
Он укрылся в православном подворье. Подворье кишело богомольцами. Одни направлялись к палестинским святыням, ко гробу господню; другие – в единоверную Грецию, на Афон. Пилигримов метило выражение суетливой озабоченности, будто на узловой станции, когда ударил колокол.
В келье было душно, как в валенке. Толстые мухи, роясь столпом, гудели заупокойно. Пованивало варевом, сальным, нечистым. Вот, брат, «твой щит на вратах Цареграда». Он затосковал. Сей бы момент променял и щит, и врата, весь Царьград на какой-нибудь Царевококшайск, а уж на Царицын-то и подавно.
До Царицына было далече, до царицынского уроженца – близехонько. В том же коридоре, в такой же комнате-келье квартировал Ашинов.
Дело было ранней осенью восемьдесят шестого. Стало быть, за несколько лет до возникновения Новой Москвы, описанной впоследствии доктором Усольцевым. Но Ашинов-то, оказывается, уже тогда высмотрел подходящую широту и долготу для счастливой Аркадии. Возвращаясь в Россию за доброхотами и добровольцами, за теми, кого он наречет «вольными казаками», будущий атаман дожидался пароходной оказии. Его проекту нужен был глашатай. Случай посылал Ашинову известного писателя, которого он не читал, но о котором слыхал. И когда магометанские созвездия неприязненно сощурились на православное подворье, г-н Ашинов отправился к г-ну Успенскому.
Г-н Успенский, сидя верхом на стуле и свесив руки, опасливо поглядывал на деревянную, с тощим тюфяком кровать. Клонило в сон, но кто ж не знает – где попы, там и клопы. Добро бы отечественные, а тутошние, надо полагать, яры, как янычары. Из хмурой опаски вывел г-на Успенского сосед-постоялец.
То был рослый, крепкий человек, упрямо-лобастый, борода в каржавых подпалинах, смотрел весело, зорко, эдаким ловцом душ. Черкеска с газырями красиво и плотно облегала его сильную грудь.
Служка принес чаю и баранок, это хорошо, а то, поди, во всем Цареграде нету, лопай рахат-лукум или как там еще. Служка ушел, можно было брать разбег – так, так, Николай Иванович, откуда и куда изволите и прочее. Ашинов, однако, без предисловий овладел вниманием г-на писателя.
Речь шла о переселении, о поселении. От добра добра не ищут. Люди не птицы перелетные; в путь трогаются, исход предпринимают, когда совсем невмоготу. Из множества русских вопросов Глеба Ивановича особенно больно брал за душу переселенческий. Ох, извечные поиски Беловодья и Синегорья, смерть переселенца в дороге, сопливенькая девчушка, плетущаяся за мамкой, у мамки грудной на руках. И всегда почему-то моросит, моросит холодный, до костей, дождик… Проект же этого, в черкеске с газырями, не исчерпывался переселением. Этот предусматривал «вольное устроение». Говорил, будто шашкой лозу рубил, вроде бы даже с присвистом: земля и мужик на земле; никакого начальства со стороны, все выборные; трудно будет, да где наша не пропадала. И гвоздем: вы бы, уважаемый Глеб Иванович, об моем почине в газетках порадели.
– Намерения у вас хорошие, – сказал Успенский и головой покачал. – Намерения.
– Слова не останутся словами, – заверил Ашинов.
Успенский помолчал, потом спросил:
– В Ленкорани бывать не случалось?
– На Кавказе живал, кунаки есть, – ответил Ашинов. – В Ленкорани не приходилось.
– А мне приходилось.
Он был там весной. Каспий штормил, берега гремели, как порожние бочки. Туман плутал в тополях, уже зеленых; белые домики напоминали малороссийские мазанки.
Читать дальше