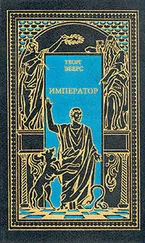Когда Бенедикт наконец снял рясу и стал искать крючок, чтобы повесить ее, то заметил на выступе печки несколько досок. Он взял одну из них и увидел на ней нарисованный искусной рукой кузнеца эскиз решетки, а на другой – выведенный углем портрет. Последний возбудил любопытство монаха; чтобы получше разглядеть его, он поднес к нему зажженную лучину – и в испуге отскочил, потому что увидел, хотя и довольно грубо намалеванный, но поразительно похожий портрет доктора Косты, которого он хорошо знал в лицо, так как не раз его встречал.
Монах с досадой покачал головой, однако взял портрет в руки и стал пристально рассматривать, бормоча себе под нос какие-то непонятные слова. Когда он затем довольно резким движением поставил портрет на прежнее место, Ульрих проснулся и воскликнул не без гордости:
– Отец Бенедикт, это я сам нарисовал.
– Вот как! – ответил монах. – Мне кажется, что сын благочестивого кузнеца мог бы подыскать себе более подходящие оригиналы. Сейчас спи, а завтра утром вставай пораньше и помогай отцу. Понял?
С этими словами он не особенно нежной рукой повернул мальчика лицом к стене, и мягкого расположения духа, которое вызвал в нем рассказ кузнеца, как не бывало. Слыханное ли дело! Адам до того сдружился с евреем, что даже позволяет своему сыну рисовать его портрет! Нет, этого нельзя допустить! Он улегся в постель и стал раздумывать над тем, как поступить в этом казусном случае. Но сон вскоре прервал нить его размышлений.
Ульрих встал, как ему было сказано, рано утром, и когда патер при дневном свете снова увидел красивого мальчика и нарисованный им портрет Косты, на него напало точно какое-то наваждение, и он решил уговорить кузнеца отдать Ульриха в монастырскую школу.
Отец Бенедикт утром был совершенно иным человеком, чем накануне вечером за стаканом вина. Он холодно и сдержанно отвечал на все вопросы кузнеца, пока тот не отправил сына учиться. Перед этим Ульрих помог отцу подковать рыжего жеребца. Ему достаточно было погладить лошадь по глазам и по морде и произнести несколько ласковых слов – и упрямый конь стал кротким, как ягненок.
– Этого парнишку, – говорил кузнец с самодовольной улыбкой, – с малых лет слушались самые необузданные лошади. Бог его знает, в чем тут секрет.
Монах взял эти слова на заметку, потому что у них в монастырской конюшне были еще две лошади с норовом, и практичный патер живо смекнул, что за то, что мальчик получит в школе, он с лихвой отплатит в конюшне.
Когда кузнец закончил работу, монах объявил ему самым благоприятным тоном, что парня следует отдать в монастырь. Ближе к Иванову дню в школе откроется вакансия, и она будет предоставлена Ульриху. При этом патер не преминул указать кузнецу, какое этим оказывается благодеяние и какая для мальчика будет честь получить воспитание в кругу знатных товарищей. Он не забыл также упомянуть, что его там научат и рисованию. О том, изберет ли он затем духовную или светскую карьеру, можно будет поговорить и впоследствии. Мальчику придется решать этот вопрос лишь через несколько лет, причем никто не будет оказывать на него давления.
Таким образом, дело устроится как нельзя лучше. Косту можно было оставить в покое, а сын кузнеца будет избавлен от его зловредного влияния. Монах не допускал никаких возражений. Он поставил ультиматум; или Ульрих будет отдан в монастырскую школу, или капитулу будет выставлено обвинение против доктора Косты. Через четыре недели, в Иванов день – так решил Бенедикт, – кузнец со своим сыном должен явиться в монастырь. У него, вероятно, есть кое-какие сбережения, а времени достаточно, чтобы прилично одеть и обуть мальчика, так как он не должен отличаться по внешности от своих будущих товарищей.
Кузнец во время этого разговора чувствовал себя в положении лесного зверя, все более и более запутывающегося в тенетах охотника, и не решался сказать ни «да» ни «нет». Монах и не настаивал на положительном ответе, но он возвращался домой в сознании, что вырвал молодую душу из когтей дьявола и что в то же время сделал хорошее приобретение для монастырской школы и конюшни. Это веселило его сердце.
Адам остался один у своего горна. В прежнее время он имел обыкновение, когда ему взгрустнется, схватывать большой молот и заглушать свое горе тяжелым трудом. Но сегодня он не прикасался к молоту, потому что сознание своего морального бессилия отнимало у него и физическую силу. Он стоял, понурив голову, точно надломленный ствол дерева. Ему было бы трудно выразить волновавшие его мысли в определенной форме, но его воображению представлялась опустевшая кузница, в которой он работает один, без Ульриха. Вдруг ему пришла на ум мысль запереть кузницу, взять мальчика за руку и уйти с ним, куда глаза глядят. Но что станет тогда с Костой? И, наконец, где же тогда найдет его неверная Флоретта, если она когда-нибудь вздумает возвратится к нему? Нет, это не годится.
Читать дальше

![Георг Эберс - Тернистым путем [Каракалла]](/books/5831/georg-ebers-ternistym-putem-karakalla-thumb.webp)