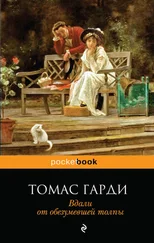Побывав несколько раз в Этрурии гостьей у родных мужа, Туллия пленилась тамошними обычаями, всею культурой более образованной нации, и решила непременно завести нечто подобное у себя наперекор строгим воззрениям римлян.
Она до сих пор не смела отделать свои комнаты с такою роскошью, как бы ей хотелось, в подражание дворцу тетки, жены Лукумона (владетельного князя) в г. Клузиуме, но в ее отделении дома Сервия находилось уже много такой примеси чужестранных аксессуаров жизни, – вещей и приспособлений туалета, – чего не только у ее скромной сестры, но и ни у кого в Риме не было, даже и у таких патрицианок, среди которых кое-кто симпатизировал склонностям этой царевны к иностранщине.
Туллия не смела выходить из дома в роскошных костюмах иноземного покроя: ее осыпал бы упреками суровый Великий Понтифекс, главный жрец Рима, стали бы открыто порицать в глаза жрицы Весты, избираемые из дочерей самых именитых сенаторов.
Наряжаясь, как ей нравилось, и забавляясь, чем угодно дома, Туллия вне его еще соблюдала обычаи народа, сдерживала себя.
Труп убитой старухи был уже давно убран и, втихомолку оплаканный рабынями, без всяких обрядов увезен за город на особое невольничье кладбище, зарыт там; рабов не сжигали, не давали им ни урны, ни гроба; самая смерть не равняла их с господами.
Арунс сидел под роковым лавром в отупении, закрыв лицо руками; мысли его спутались; горе давило сердце; он уже не мог плакать.
Приблизясь к мужу, Туллия грубо отняла его руки от лица и со смехом сказала:
– Господин плачет о рабыне, ха, ха, ха!.. Фи!.. Перестань, Арунс!.. Ты ее любил; я этому верю, потому что ты любишь многое, чего не любят люди образованные, хорошего тона... Но что же о ней плакать? – ведь, не ты убил ее.
– Я, – отозвался молодой человек тоном полной апатии, бессознательно, равнодушно ко всему окружающему, даже не взглянув на жену, вперив мутные глаза в одну точку, как помешанный. – Я убил ее, я сам, своею рукою, ни за что ни про что, пронзил единственное сердце в мире, которое меня понимало, любило, сочувствовало мне; я пронзил сам это старое, верное сердце.
Закрыв снова лицо, он начал раскачиваться, повторяя:
– Я... я сам... я убил ее!..
– Ты... убил... Тизбу!.. – ошеломленная открытием тайны, с расстановкой проговорила Туллия, впиваясь в фигуру мужа широко раскрытыми от изумления глазами. – Ты мог убить!.. Мямля, хворый, нахохленный цыпленок, петушатник и голубятник, играющий в мячики!.. Ты мог убить!.. Твоя рука не дрогнула!.. За что ты убил ее?.. Ах!.. Я поняла, Арунс!..
Она поняла, что от рокового толчка судьбы в существе ее мужа начался переворот всего склада характера, перемена всех склонностей души и сердца, поняла, что в его существе пробуждается до сих пор глубоко дремавшая, скрытно таившаяся сила духа, способного восстать против власти жены, а пожалуй даже подчинить ее себе, – поняла, что Арунс, если дать развиться начавшемуся перевороту, сделается подобен своему брату Люцию, чего Туллия не желала совсем.
Она грозно схватил мужа за руки и встряхнула; выведенный этим из столбняка, молодой человек оттолкнул жену, вскочил и стремительно побежал через лужайку все прямо, не разбирая дороги, очевидно ничего не видя пред собой, ломая розы по клумбам, но вдруг, точно пораженный молнией или солнечным ударом, упал без чувств.
ГЛАВА VIII
Терпи и жди!..
Убежав без оглядки из царского сада на берег Тибра, Юний Брут нашел там рыбачью лодку, не задумываясь, отвязал ее, сел и отчалив, предоставил течению, положив весла на дно.
Все случившееся представлялось ему каким-то неясным кошмаром тяжелого сна, в котором человек сколько ни принимается за нужное, спешное дело, не может исполнить ничего в нем правильно, а все у него выходит навыворот, силится проснуться и не может: сначала убита Туллия, потом чуть не убит он сам, наконец оказалось, что убита не она, – все это произошло одно за другим с быстротой волшебного жезла сказочной чародейки, Сивиллы, волшебницы Кумского грота.
Что осталось делать? – Брут мог придумать одно: унестись подальше от заколдованного сада куда бы ни было, – в поля, леса, на взморье, – на простор и чистый воздух, не зараженный близостью ненавистной ему Туллии.
Очутившись за городом, Брут вышел на берег, заросший дубовым лесом, побродил туда и сюда в темноте, потом сел на камень и тихо засвистал.
Он умел искусно свистать и дроздом, и жаворонком, и соловьем, так что многие даже вблизи, забыв эту способность чудака, поддавались полной иллюзии звука его голоса и начинали искать предполагаемую птицу, чем очень часто забавлялась Туллия.
Читать дальше