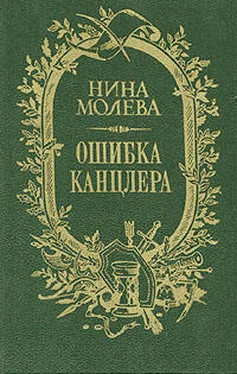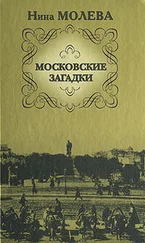– Не поверю я никому, мамка, нипочем не поверю! Может, и он такой, да с малого начинал, не на большое льстился. Да и привыкла я к нему, ненадобен мне другой. Слышь, ненадобен!
– А коль ненадобен, и на то способ есть. Как есть на все согласна будь, все подписывай, чего скажут, а царицей станешь, там и решать будешь: то ли тебе чужие приказы слушать, то ли другим перед матушкой-государыней в струне стоять. Думаешь, плетет старуха невесть што? Последнего разума лишилась? А ты вспомни, лебедушка, тетеньку-то свою, блаженной памяти царевну Софью Алексеевну. Разве не так она советчиков своих обошла, не так от князей Хованских, что стрельцами командовали, избавилась? Хотела князюшку своего Голицына Василья Васильевича обок себя у престола видеть, и видела. Кто ей, покойнице, указ был? Вот и ты обожди своего времечка. Теперича недолго уж – дольше терпела!
Казалось бы, бушевавшие вокруг престола страсти могли и не коснуться Москвы, тем более замоскворецкого ее затишья. Но действительность выглядела иначе. Каждое петербургское решение эхом катилось по старой столице. Сведения М. Д. Рудольфа нашли свое подтверждение. Купец Иван Комленихин в Москве в 1720 году жил и, судя по актам купли-продажи, двором владел в климентовском приходе. Почему бы ему и не позаботиться о своей приходской церкви? Так вот ответ на это «почему» мог быть только отрицательным.
Первого июня 1701 года невиданной силы пожар в считаные минуты охватил Кремль. Сгорели все деревянные постройки. Растрескались от жара каменные стены. Растопился лед в глубоких погребах. Земля, как в ужасе писал летописец, на четверть аршина вглубь превратилась в раскаленные уголья, а снопы огненных брызг раз за разом поджигали струги на Москве-реке и сады в Замоскворечье.
Известие о страшном бедствии не тронуло Петра. Мыслями он далеко от старой столицы. Рухляди в теремах не придавал значения. Кремль давно хотел переделать по новому образцу. В конце концов, несмотря на все утраты, пожар пришелся только на руку: ни тебе споров с советчиками, ни тебе обсуждений со староверами.
По первому царскому указу следовало подготовить на пепелище место для Комедийной хоромины: выписанные из Европы актеры со дня на день могли приехать в Россию. Сказалось ли тайное сопротивление московских дьяков, в чем подозревал их ведавший строительством Головин, действительно ли не хватало времени на разборку пожарища, но хоромина выросла у кремлевской стены со стороны Красной площади. Зато задуманный Петром Арсенал или «Цейгоус» занимает весь выходящий на Неглинную угол Кремля.
Бесполезно и опасно приводить какие бы ни было доводы для задержек строительства. Петр думает о хранилище оружия, амуниции и одновременно о музее славы русского войска, где могли бы храниться военные трофеи. Пусть Северная война еще не приносит побед, он не сомневается – победы будут, много побед.
Но с первыми успехами у берегов Балтики проходит и интерес к московской стройке. Архитекторы и строители нужны для новой столицы, которой предстоит встать на берегах Невы. Сначала в Петербург переводятся все казенные мастера. В 1714 году следует царский указ запретить в старой столице и по всей стране каменное строительство, чтобы не отвлекать каменщиков от единственного важного, с точки зрения царя, дела. Принимая в свое время подобные же меры, Борис Годунов грозил мастерам и их семьям за непослушание тюрьмой и батогами. Петр не собирается наказывать за нарушение запрета. Достаточно, если нарушитель возведет точно такое же по размерам и стоимости сооружение в новой столице – налог столь ощутимый, что ослушников попросту не оказывается.
Нет, исключения конечно же были. Но все наперечет, все с ведома и разрешения самого Петра. Не станет ограничивать он именитых людей Строгановых в их тщеславном желании возвести на московском дворе собственный каменный храм – щедро и безотказно поддерживал деньгами все петровские замыслы глава семьи. Другое дело, что умел получить свое монополиями да ничего на первых порах не стоившими царю привилегиями. Нельзя было не разрешить достроить церковь Казанской Божьей Матери в Воскресенском монастыре Кремля – ведь хоронились здесь все женщины царской семьи, а среди них и нежно любимая сыном Наталья Кирилловна. А разве не хотелось увидеть завершенной начатую в 1705 году в честь собственных соименных святых да еще, как утверждает легенда, и по собственному чертежу церковь Петра и Павла на Новой Басманной? По другим соображениям не прекращались работы в церкви Благовещения на Тверской, впрочем, велись они так медленно, что подошли к концу лишь во времена Анны Иоанновны. Иных исключений относительно царского запрета в городе не было.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу