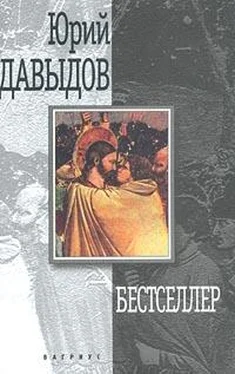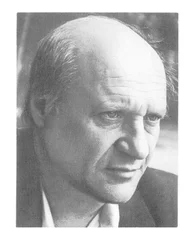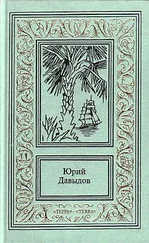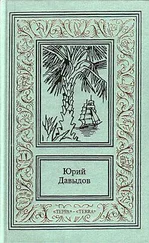И верно, весело. И вправду, оптимизм.
Таблички на дверях: «Евреи нежелательны». И это значит, желательны нам марши, marchieren здесь, на полях на Елисейских. Младая гвардия рабочих и мещан – рубашки темно-синие, береты, сапоги – и этот вечный зов-призыв: жидов всех в крематорий. Зачем же всех? Я, помнится, говаривал поляку, историку-антисемиту: не надо всех, где ж вы потом возьмете стрелочника? Пан Людвиг Б., вздыхая тяжко, плескал коньяк в пивцо. А здешние о том не помышляют. Облавы, как обвалы, все повальные. В году текущем изловили сорок тысяч. Загнали поголовно в предместие Дранси и сдали под охрану французской жандармерии. Путейцы-парижане усерднейше формировали эшелоны. И с перестуком, с перестуком, гудят накатанные рельсы – в Германию и в Польшу, там печи пышут жаждой холокоста. Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
Старик, давно не бритый, в хилом пиджаке и в башмаках рассохлых (в одном таится изверг-гвоздик), старик уж убедился – страшные слова призвали страшные дела. Страшней всего вот это выраженье общее на лицах парижан: тебя в геенну волокут, а я пойду-ка кушать кофий. Нисколько не злодейство, а равнодушная природа сияет вечной красотой. Молчу! Молчу!
Нет, лик Парижа не прекрасен. Своих в Париже почти что не осталось. Но есть еще «последний русский уголок». Тащился мой В.Л. на рю де ла Бужери, в Тургеневскую библиотеку. Сжимал он в кулаке сорок сантимов. Карманы прохудились, а эти самые сантимы не пустяк. Колбасник, давно знакомый Бурцеву, ему отпустит от своих щедрот ни много и ни мало две сосиски. А булочник – немного хлеба. И скажешь ты: аминь, нет сорока сантимов. Иногда, мучительно борясь с застенчивостью, В.Л. бочком – в бистро, там, на бульваре Сен-Мишель. Хозяина знавал он мальчиком, однажды подарил три книжечки с картинками. Бывший мальчик жалел В.Л., не унижая этой жалостью. Приветливо он приносил, на столик ставил глиняный горшочек с густой похлебкой из рыбьей требухи, добытой на Центральном рынке. А здесь, в Библиотеке, библиотекарша-старушка, она и сторожиха, предложит чаю, ответит Бурцев – достаточно и кипятку, и оба улыбнутся, и оба ощутят в своей улыбке отсвет незапамятных студенческих годов.
В «последнем русском уголке» имелись закоулки с завалом неучтенных книг. Бурцев этот хлам подверг разборке и отмечал на карточках. Работа машинальная включала машину времени, она из этого Парижа уносила в тот, где жизнь имела смысл. Столь полный, что наш В.Л. стал посещать концерты с участием Jazz-Band и даже, представьте, рождественские елки, если только все это происходило здесь, в Тургеневской общественной библиотеке.
Он меломаном не родился. Но как-то раз внезапно понял, что говорит он прозой. Какой-то социалист-революционер, не очень ординарный, чуть не силком привел В.Л. в театр. Давали там «Кармен». И оказалось, что многие мотивы, арии «маньяк-изобличитель» помнит. Откуда? Как это понять? Не знал В.Л., не знал. Да только уж не отправлял в корзинку милые афишки, присланные Библиотекой: «В 8 с половиной вечера состоится…» Не чужды стали имена мадам Крассовской, балерины, пианисток Нади Тагрин и Тамары Хартманн, Игнатовых отца и сына, аккордеонных виртуозов.
Для детской елки на Рождество программа повторялась ежегодно: дивертисмент, танцы, игры; все музыкальное – рояль фирмы Steinway. В афишке сообщалось: «Каждый детский билет дает право на подарок». Бурцев приводил Анри, который, я вам говорил, теперь хозяйствовал в бистро, и давние подарки возмещал горшочком с рыбьей требухой. Бездетный Бурцев любил смотреть, как радуются дети, – потребность, родственная «голоданию кислородному», – в доверии, в освобождении от изнуряющего ожидания двурушников.
Коллекция афиш хранилась на библиотечной полке. Игра шрифтов и блеклый запах суконных боковых кулис. А некоторые дубликаты украшали стены. Одна афиша приглашала довоенных абонентов на вечер памяти Жуковского. И тут конец лирическому отступлению, пора представить герра Вайса.
Не первый раз и не второй являлся он в Библиотеку. Имел бумагу-предписание как эмиссар комендатуры. Был вежлив, расспросами не досаждал, усерднейше перебирал все каталоги, заглядывал и в книги. Однако ни Бурцев, ни профессор Сватиков, старинный друг В.Л. и, кажется, единственный член правления Библиотеки, оставшийся в Париже, ни другой профессор, историк Мельгунов, никто из них не угадал, какое, в сущности, препоручение имеет этот немец.
С В.Л. он в долгие беседы не вступал. Но и не скрыл, что знает, с кем имеет дело, поскольку был он в Берне, на суде, и слушал показания В.Л. Наш Бурцев испугался не на шутку. Но помаленьку убедился, что он не слишком лакомый кусочек для гестапо. На то обиды не почувствовал и несколько расположился к Вайсу. И даже сократил, обузил предположение о том, что Гельмут Вайс, владеющий живым великорусским, имеет как разведочный сотрудник специфическое направление.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу