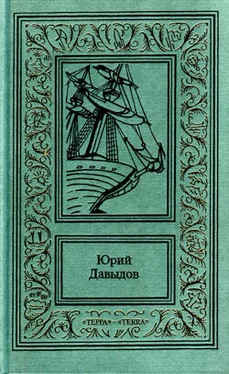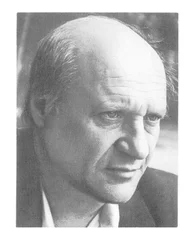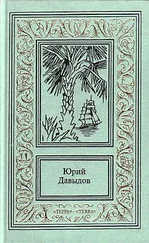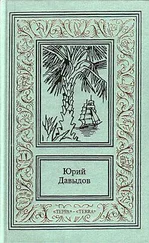Но клубились не только эмоции – внятно говорил разум: необходима передышка. Было сознание множества просчетов, толкнувших к роковому неманскому рубежу. И еще была тяжесть «шапки Мономаха»: ему, Александру, отвечать за все, решать все. Ему, Александру, и никому другому, ибо теперь уж нельзя, невозможно свалить вину ни на Кутузова, ни на Беннигсена, ни на Чарторижского, ни тем паче на какого-нибудь Убри…
– Ваше величество, едет! – раздалось в горнице.
– Едет… едет, – заволновались свитские.
Александр встал, надел шляпу, натянул перчатки и пошел к выходу, храня наружную невозмутимость (мельком, про себя радуясь, что хранит ее), твердо выставляя ноги в коротких блескучих ботфортах и тугих белых панталонах.
На другом берегу Немана катился восторженный гул: старая гвардия приветствовала своего полубога. Наполеон скакал махом, увлекая, как комета, яркий хвост всадников.
Теперь слово Денису Давыдову, очевидцу: «Но вот обе императорские барки, отчалив от берега, поплыли. В эту минуту огромность зрелища восторжествовала над всеми чувствами. Все глаза устремились и обратились на противоположный берег реки к барке, несущей этого чудесного человека, невиданного и неслыханного со времен Александра Великого и Юлия Цезаря, коих он так много превосходил разнообразием дарований и славою покорения народов просвещенных и образованных. Я глядел на него в подзорную трубу, хотя расстояние до противного берега было невелико, и хотя оно сверх того уменьшалось по мере приближения барки к павильону. Я видел его, стоявшего впереди государственных сановников, составлявших его свиту, особо и безмолвно…
Обе барки почти одновременно причалили к павильону, однако барка Наполеона немного опередила, так что ему достало несколько секунд, чтобы, соскочив с нее, пройти скорым шагом сквозь павильон и принять императора нашего при самом сходе его с барки; тогда они рядом вошли в павильон. Сколько помнится, все особы обеих свит не входили в малый павильон, а остались на плоту, знакомясь и разговаривая между собою».
Свидания, начатые на воде, продолжились на суше: Наполеон пригласил Александра в Тильзит. Пошли парады и обеды, верховые и пешие прогулки, обмен орденами и тостами, вся та помпезная, мишурная, но все ж полная какого-то пьянящего аромата жизнь, за которой скрывалась другая – серьезная, напряженная, сложная жизнь «высоких договаривающихся сторон».
Главным была не «раскройка» европейской территории, не Пруссия и не позолоченная пилюля в виде Белостокской области, преподнесенной императором французов своему новоявленному «брату». Главным было заключение союза, присоединение России к континентальной блокаде, то есть к системе полной изоляции, полного удушения Англии.
Во все дни необычного рандеву императоры влюбленно глядели друг на друга. Наполеон был мастером обольщений, и Александр казался обольщенным. Александр умел чаровать, и Наполеон казался очарованным.
Царедворцы, говаривал Вольтер, скрывают истину, историки ее обнаруживают. Тильзитскую истину обнаружили и современники. Правда, не те, что были ослеплены сиянием двух «солнц», а те, что находились от «солнц» подалее. Аустерлиц и Фридланд они восприняли как поражения; Тильзит – как пятно.
Тогдашний лейб-гвардейский офицер Денис Давыдов позднее вспоминал: «Общество французов нам ни к чему не служило; ни один из нас не искал не только дружбы, но даже знакомств ни с одним из них, невзирая на их старания, вследствие тайного приказа Наполеона, привлекать нас всякого рода приветливостями и вежливостью. За приветливость и вежливость мы платили приветливостями и вежливостью – и все тут. 1812 год стоял уже посреди нас, русских, со своим штыком в крови по дуло, со своим ножом в крови по локоть».
Тильзит был поворотом крутым и резким. Поворотом, чудилось, внезапным. Присоединиться к континентальной блокаде значило подписать смертный приговор русско-английской торговле, позарез необходимой российским помещикам и купцам. Это, конечно, било по карману, по бюджету, по мошне. Но, кроме «экономической обиды», в реакции современников на Тильзит была еще и обида национальная…
Июльским днем Александр переезжал Неман. Наполеон, стоя на берегу, дружественно делал ручкой. Передавали, что царь будто бы шепнул вконец униженному прусскому королю: «Потерпите, мы свое воротим». Передавали, что царь заверял близких: «По крайней мере я выиграю время».
И это было так, если даже это и не так было.
Читать дальше