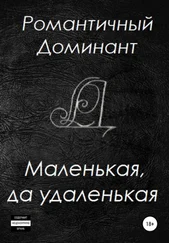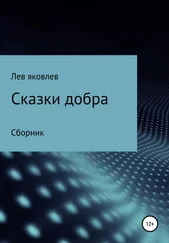Встать бы! Можно еще успеть — выволочь его из Илима в Петропавловку, в кандалы. Не бывать по-твоему, еще и Америка твоя разлюбезная, рыдая, от республиканских гнусностей откажется, взмолится о даровании монарха, единодержца. Нельзя стаду без пастыря.
Россия не останется без заботливой руки правителя. Доброго пастыря, не дурного.
…Она призвала Безбородко; медленно шевеля губами, помогая себе усилием всего тела, выговорила:.
— Завещание мое… велю прочесть. Сенату и особам… духовных позови. В Гатчину пошли. Пора уже.
Александр Андреевич вышел, на пороге перестав сдерживать крупную дрожь. Все было у него в руках — и плаха поодаль. Переигрывать — поздно; весь расклад шел к тому, что не внука, сына сажать следует на престол. У внука свои мысли, свои люди, о том заботы Безбородко не было. И надо ведь, как искушает дьявол! Ну что ей про завещание вспомнить вчера, неделю назад, когда ходила еще! Тогда смирился бы статс-секретарь, куда деваться. Своими руками все погубить заставляет, своими руками, по воле полуживой старухи, валяющейся на кушетке в углу пустой залы, как ненужная рухлядь!
Не встанет. В таком деле врачи ошибиться не могут. Не встанет. Но — государыня еще; несколько слов, хоть и холодеющими губами, — Сибирь, Петропавловка, плаха!
Господи!
Послать к Павлу? Пустое, не возьмет на себя. Зубов? Совсем ума не стало. Куда уж его-то!
Господи!
И статс-секретарь не решился ни на что. Не объясняя толком зачем, стал посылать за виднейшими лицами империи; они собирались постепенно, заполняя дворец гулом сплетен, решая вслух уже, кому надо ниже кланяться теперь, кто войдет в силу при новом государе. Лежа на своей сиротской, узкой кушетке, Екатерина из-под отяжелевших век следила, как проскальзывают торопливо через ее комнату куда-то люди, ни взглядом ее не почтив. Хотелось пить, но никто не нес воды, а позвать она не могла: отнялся язык.
Потом пришел врач, подержал равнодушно руку и выпустил, не глядя, куда упадет. Пожал плечами, повернулся к стоящему рядом — лицо как в тумане, не разглядеть. Заговорил о чем-то…
Стучал дождь в окно, журчали голоса за стеной. Зима ли сейчас, лето?
Сорок лет назад, не зная ни одного слова по-русски, приехала в эту страну девочка из Штеттина, чудного города па краю Европы, где круглые башни и теплый ветер…
* * *
Павел дожевал листик салата, снял салфетку, поднялся. Медленно-медленно пошел к дверям. Грохот копыт на подъездной аллее сотрясал весь дом. Рванув на себя дверь, в побелевшее лицо, не разберешь чье, бросил одно слово:
— Кто?
— Зубовы.
— Все? — поднял бровь Павел.
— Один.
— Ну, это не страшно, — без улыбки кивнул он через плечо и пошел сквозь распахнутую дверь, отстранив плавным, плывущим движением человека, заслонившего дорогу.
Комната, снова дверь. В запахе лошадиного пота, прерывистом дыхании, брызгах с плаща — Николай Зубов.
— Ваше величество…
Стемнело, едва выехали из Гатчины. В первых санях, рядом с Павлом и Марией Федоровной, — в расстегнутой шубе, не чувствуя холода, приник у облучка успевший вслед за Зубовым приехать и выложить наследнику россыпь дворцовых секретов Федор Ростопчин. Глухо шуршал под полозьями ноздреватый, таявший в полдень снег; тучи развоͮ»окло, и огромная голубоватая луна повисла над лесом. Трех верст не проехав, едва не столкнулись с вывернувшимися из-за леска санями. В последний миг сидящий в них пхнул в спину кучера, и тот свернул прямо в глубокий снег. На ходу сбрасывая шубу, ехавший — гвардейский офицер — выпрыгнул, подступил к остановившимся саням Павла:
— Государь…
Павел смотрел на него молча, пристально. Кашляющим шепотком, оборотясь, бросил Ростопчин:
— Что стоишь? Знаем, что во дворце. Поворачивай за нами! — И пхнул кучера локтем: — Трогай!
К городской заставе за ними подомчал целый поезд. Звенели не подвязанные бубенчики, где-то позади весело переругивались, плясало пламя фонарей. Не обращаясь ни к кому, Павел сронил негромко:
— А ведь ее не любили.
С крошечной своей свитой — приставшие в дороге, посланные и добровольные, гонцы поотстали — прошел он комнатами Зимнего, полными склоняющихся перед ним людей, помедлил мгновение у закрытой двери, за которой на простой кушетке — доктора запретили переносить — умирала Екатерина. Бросил через плечо:
— Цесаревичей — в угловой кабинет! — и открыл дверь.
…Грузное тело казалось слишком большим для кушетки. Императрица семь часов, с того момента как упала здесь, не открывала глаз, не говорила ни слова. Став на колено, Павел нагнулся к ее руке, бессильно вывернутой, коснулся щекой оплывшего запястья. Поднимаясь, выхватил взглядом из стоящих вокруг камер-пажа Аркадия Нелидова, жестом позвал за собой.
Читать дальше



![Сергей Васильев - Император из стали - Император и Сталин. Император из стали [сборник litres]](/books/438748/sergej-vasilev-imperator-iz-stali-imperator-i-st-thumb.webp)