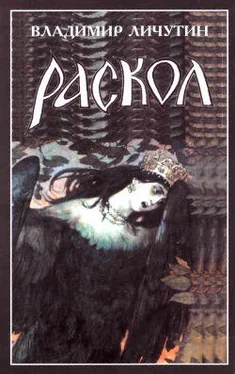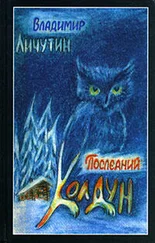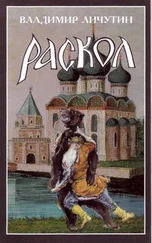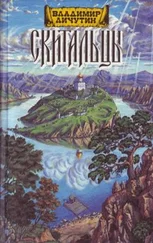Ее же хладеющая безмолвная оболочка, завернутая в саван, как гусеница в белоснежный кокон, недвижно покоилась на лавке. Напоследок вошли в чулан мамки, вынесли прикроватную колоду, обтянутую бархатом, и комната как бы совсем отъединилась от живого мира, приуготовилась к похоронам.
Федосью тут ждали. Она еще с порога поняла это; ждали и как бы не верили, что явится суемудрая в «вертеп». Насурмленные брови Анны Ртищевой безмолвно взметнулись и опали. С двух сторон лавки стояли четыре креслица немецкого дела, обитые золотной парчою. И как бы по странному списку на трех подушках, горестно пригорюнясь, сутулились три Анны: Ртищева, Хитрова и Морозова.
Сестра покоенки, Анна Ильинишна, комкала в ладонях батистовую фусточку: наплакалась, сердешная, до дурноты; да и как не уреветься, ведь не только родную сестреницу спровадила в вечную разлуку, но и потеряла надежную тропу в Терем. И Федосья Прокопьевна, глядя на свойку, искренне пожалела ее, простив сразу все грехи. Действительно: с глаз хитрая, в словах увертливая, голосом шумливая, повадками нахальная. А разгостится да спознается, – такая ли добрая и развеселая; и шутку иной раз такую подкинет, что и молодой разбитной женке не скроить… Анна Ртищева, хоть и близкая родница, но гордовата и ломовата, Никоновы отирки, любит, чтобы все по-ейному стало, чужой воли не терпит и всякую святую душу под свой норов приклоняет… Анна Хитрая с виду сама простота, а с исподу – змеюка подколодная, всю царицыну жизнь под себя уноровила, только что в кровати не ночевала. Два-оба с Богданом, как псы цепные, улеглися у престола…
Опустилась Федосья Прокопьевна в креслице и, не глядя на верховых боярынь, принагнулась к упокоенке, поцеловала скрещенные руки и губы, и лоб усопшей. А, чего там: смерть не красит человека. Ведь как крепилась Федосья, велела себе настрого держаться, чтобы ни слезинки из глаз; знала себя, лишь дай послабки, а там прихватит до родимчика, не остановить. И вдруг горло запрудило, ком приступом накатил из груди, Федосья Прокопьевна ойкнула, не сдержалась, заскулила по-собачьи, сбивая к затылку сборник, выцапывая седые пряди себе на глаза, словно собралась волосами обирать с лица слезы. И завыла в полный голос, запричитывала, плотно ударяя ладонями по коленям. Поди, до государева Терема донесся пронзительный воп боярыни: «Ой, да на кого ты нас и спо-ки-ну-ла-а-а… !»
Анна Ильинична вздрогнула, обняла за плечи свойку, прижала к груди, чтобы не рвалась печальница к усопшей. Анна Петровна Хитрова подумала с тайным торжеством: «Сутырщица-поперечница, злая раскольница. Притащилась в хоромы в сарафане. На кого взнялась?.. Повой, пореви. Это и ты спехала царицу в могилку допрежь времен. Марьюшка-то покоенка была поноровщица-потаковщица тебе, много сердца поизорвала, улещая государя… Эх вы, на горе стоите, да никого не видите. Людей-то ни во что не ставите, пока живы те. Пусть слеза свинцовой пулей застрянет в сердце. Авось поумнеешь, суемудрая…»
– Ну, будет тебе убиваться-то. Мы не реветь сюда созваны, – скрипуче осадила Хитрова, стараясь оттеплить голос. – Мертвых из могилы не принашивают, – добавила невпопад. Хорошо, никто не расслышал последних укорливых слов. Тут сенная девка внесла жбанчик сыченой воды, налила в кубок, и Анна Ильинишна напоила страдницу, будто уснувшую на ее высокой груди. Сомлевшей Федосье Прокопьевне стало так уютно, спокойно от горячего телесного духа, волнами истекающего от свойки. И не то чтобы вдруг стало стыдно за свой воп и кликушество, но неловко оттого, что она, Федосья, как бы отняла, присвоила главное горе царицыной сестры.
Надсада потиху отступила от сердца, в горле унялись клекоты и всхлипы. И вдруг из подклети, где жили теремные нищенки, по обогревным колодцам, как из подземной таинственной часовенки, просочилась в спальный чулан духовная песнь, словесно невнятная, но в звуках удивительно приимчивая к душе. Старицы пели с приголашиванием, высоко вздымая голос и взойкивая. Федосья Прокопьевна невольно прислушалась и тут совсем очнулась, глубоко вздохнула. Колыбнулось тонкое пламя свечи в руках покоенки, и царица умиротворенно улыбнулась, благость и нездешний покой разлились на крахмально-белом вытончившемся лице.
«Ой, что же я улилася? Подумают, притворщица, – укорила себя Морозова. Тайная постриженица почувствовала власяницу, жестко прильнувшую к увядшим сосцам и к впалой родове с провалившимся пупком. Как бы сама мать – сыра земля позвала: „Фео-до-ра-а“, – и украдчиво обняла боярыню-монашену. – Ведь слезами дорогу не торят. Христовы невесты плачут потиху и роняют слезы, как свеча ярый воск, чтобы каждой каплею пронимало душу насквозь».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу