Майордомо пытается что-то сказать, но резкое движение руки дона Томаса останавливает его.
— Молчать! Делайте, что надо!
Скрипнув зубами, кланяется майордомо спине своего господина, обещая себе: «Ну, погодите у меня, голодранцы! Я подтяну узду, чтоб в другой раз не получать за вас разноса!»
В замке гул и звон — готовятся к завтрашнему празднеству.
Солдаты чистят оружие, служанки натирают медную и оловянную посуду, режут птицу, все спешит, бежит, гремит.
За приготовлениями к пиру наблюдает — из любопытства и в предвкушении лакомых блюд — второй воспитатель Мигеля, капуцин Грегорио.
— Бог сотворил быков для арены, собак для охоты, домашнюю птицу для еды…
— А человека, ваше преподобие? — спрашивает толстый повар Али.
— Человека бог создал для того, чтобы он мудро наслаждался дарами жизни и хвалил бога, — отвечает монах, пробуя блюда. — Добавь-ка сюда щепотку гвоздики, Али. Тогда кушанье приобретет нужный аромат.
Столетняя Рухела, няня Мигеля, ощипывает гуся.
— Наслаждаться жизнью? Красиво вы говорите, ваше преподобие. Да только нам, беднякам, нечем наслаждаться — мы не можем даже и говорить о какой-то там жизни. Наши дети до сих пор не знают вкуса гусятины. Утром, в полдень и к вечеру — кукурузные лепешки. После такого лакомства желудок воет, как пес, и если над твоей головой непрестанно кружится бич — трудно наслаждаться жизнью…
Грегорио участливо глядит на старуху.
— Когда-нибудь и вам хорошо будет, Рухела, вот увидишь. А не увидишь ты — увидят внуки. Пока же пусть каждый помогает себе, как может.
Грегорио спокойно взял со стола большой кусок гусиного паштета и сунул его в обширный старухин карман. Вся кухня расхохоталась, только Али в ужасе выпучил глаза.
— Что ты так смотришь, Али? — строго спросил монах. — Разве из-за такой малости оскудеет пиршественный стол?
Али засмеялся:
— Ну, коли вы так говорите, падре, значит, не оскудеет. Мы все вам верим.
Мимо отворенной кухонной двери тенью мелькнула стройная мальчишеская фигурка.
— Видали? — провожая Мигеля взглядом, сказала Рухела. — Сын самого богатого сеньора в Андалузии, а тоже не наслаждается жизнью. Скользит, как тень, глаз от земли не поднимет, и знает одни только книги, и нет у него никакой радости А какое красивое было дитя, когда я носила его на руках!
Петронила, молодая служанка, с участием отозвалась:
— Мне его жалко. Он добрый мальчик. Единственный из всех не брезгует разговаривать с нами.
— Недавно спас от лютости Нарини перевозчика Себастиана. Себастиан укрыл у себя маленького Педро, которого хотели высечь, — добавила служанка Барбара — И Мигель до тех пор просил дона Томаса, пока тот не помиловал Себастиана и не отменил порку Педро.
— Если молодой господин таков, то это заслуга падре Грегорио, — подхватила Агриппина.
— А как же иначе? — удивился монах. — Погодите, дети мои, увидите — я сделаю из Мигеля человека!
— Хорошо бы, — сказала Рухела. — Если б не Трифон, этот вельзевул, который делает из мальчика чудовище по своему подобию…
— Молчи! — понизив голос, остановил ее Грегорио. — В доме есть доносчик!
— Вельзевул и есть, и не любит никого, даже господа бога! — стоит на своем старуха. — И сделает он Мигеля таким же бессердечным, как сам. Иссохнет сердце Мигеля, как цветок шафрана в песке. Все-то он сидит за решетками, а как бы хотелось ему поиграть с нашим Педро и крошкой Инес! Но нельзя, все запрещено бедняжке…
Рухела осеклась, ибо на пол кухни пала тень человека, сухого, как жердь. О, это майордомо Марсиано Нарини, воплощенная сухость, засушенная надменнось в камзоле, скелет с лицом трупного цвета.
— Приготовления идут как надо? — проскрипел иссушенный голос.
— Да, ваша милость, все идет как надо, — отвечают все хором, провожая ненавидящими взглядами графского погонялу.
Перед доном Томасом, падре Грегорио и майордомо — арабский скакун.
— Что скажешь, падре? — спрашивает граф.
Глаза Грегорио светятся восхищением.
— Не может быть лучшего подарка к рождению Мигеля, ваша милость. Этот конь подобен солнечному лучу. У него петушиная поступь. Сухожилия напряжены, как тетива лука.
Падре ходит вокруг вороного коня, с чувственным наслаждением поглаживает его блестящую шерсть.
— А ты, Марсиано?
Сухой майордомо вспыхнул свечой, ибо испанец и на смертном одре испытывает такую же страстную любовь к лошади, как к собственной жизни.
— Великолепное животное, ваша милость.
Читать дальше



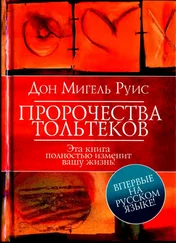



![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)


