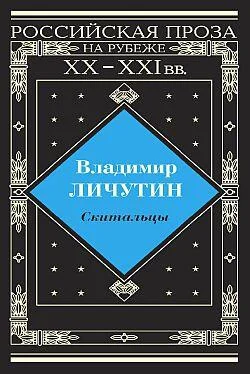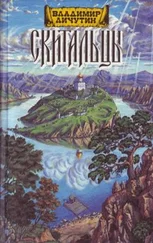– Куда это к вам?
– А ты пуще присмотрись. Ты вон какой худой, одна смерть. К нам придешь – вся хворь из тебя как в сито... Но ежели хошь знать, баба твоя у нас за богородицу, – легко солгал Момон, увидев вдруг в Яшке будущего скопца, своего апостола.
И то сказать: двоим лучше, нежели одному, ибо если упадет один, то другой подымет товарища своего. Но, спохватившись, Момон вновь стал прежним, сторожким и чутким, он принялся торопливо выпроваживать брата из трактира, сославшись на дело. Упаси Боже, еще примется братец денег просить. Не страшил Момона и диковатый, вспыхивающий Яшкин взгляд, но лишь подстегивал к решительности. Яшка же упорствовал, выпытывал про жену, ему не терпелось видеть ее.
– Завтра, завтра, завтра, – настаивал Момон. Яшка понял, что брата ему не одолеть. Рукавом поддевки он почистил медаль на груди и с неохотою и с тоскою, словно бы чуя остерегающий глас, поплелся из трактира. Момон проводил его со странным чувством покоя и тревоги в груди, вновь уселся на прежнее место дожидаться должника. Краем глаза Момон еще какое-то время следил в окно: Яшка застыл на перепутье, крутил головою, не зная, наверное, куда податься. И Момон мимолетно пожалел, что зря не пригласил брата на ночевую.
Домой вернулся Момон еще засветло: с порога оглядел свое жилье и поразился его угрюмой запущенности, той заплесневелости и скверному духу, что бывает лишь в сытых старинных подвалах. Но по постоянной привычке он обозрел комнату с осторожным пристрастием, чтобы почуять, не бывал ли кто здесь в его отсутствие, не покушался ли на капиталы. Момон зашторил зарешеченное единственное оконце, зажег свечной огарыш и, взяв в руки шандал, обследовал комнату, заглянул в альков. Но успокоение не приходило; было такое чувство, что из угла присматривает за хозяином кто-то злой и настырный. И вновь смутно пожалел Момон, что так легко отшил брата. Сейчас бы кинул ему тюфячок на пол, поговорили бы всласть перед сном. Господи, как же переиначить душу, так вылепить ее, чтобы она ни по чему не ныла, не страдала? Столько лет не был в родных краях, вроде бы и позабыл вовсе, ан нет, сочит сукровицей душа, не может зарубцевать ранку. Чего хорошего оставил в Дорогой Горе? Мякинный кусок, попреки, да потычки, да чужой постылый угол. Ему ли, Момону, жалеть прежнюю неурядливую жизнь? Ха-ха. Родина... Что за придумка шиша-находальника, коего мутит бесконечная дорога. Вот он и бредит теплом, уютом, горбухой ситного. Но он, Момон, не побродяжка, не шатун, но чистый агнец, Божий сын, наместник Бога на земле. Многим ли на миру выпало экое счастье, коли богатству его нет цены и счета. Смейся, Момон, пляши, потирай руки над новою жертвой: завтра после пополудни торг и очередное имение заносчивого барина продадут с молотка с тем лишь, чтобы погасить предъявленные Момоном векселя. Худо ли с каждого рубля, пущенного в оборот, иметь три? Радуйся и торжествуй, «белый голубь»...
Но отчего же неможется, тоскнет грудь, дыханье спирает?
С непонятной прежде ненавистью, словно бы собирался раздавить гада, подошел Момон к конторке, достал шкатулку, нажал ногтем потайной пенек: распахнулась крышка, запел золотой соловей, играя крохотным горлышком и щелкая клювом. Не чудо ли? Исхитриться надо, экую механическую штуковину изладить.
– Тонкость-то какая, братец! – воскликнул Момон, будто Яшка был возле. – Все люди – скоты, так и норовят подкузьмить, и лишь эта тварь послушна твоей воле, и никакого-то в ней дурного умысла.
Соловей отпел, захлебнулся, Момон захлопнул безделицу, взвесил ее на руке. Шкатулка жгла и тревожила ладонь. Момон с тоскою представил грядущий долгий вечер, снял с огарыша наплывы, душащие крохотное пламя. И, наверное, впервые ему не захотелось жить: будущее быванье увиделось столь долгим и муторным, что он невзлюбил его. Прежде ему ни разу не подумалось: «Для кого же я тружусь?» Но сейчас он пожалел себя и почуял от странного подарка гнетущую тревогу. И вдруг ему стало весело, он забегал по горенке, расщедрившись, запалил полдюжины свечей, помолился пред образом Селиванова, встал подле конторки и написал завещание. По нему после смерти Момона все имение и капитал наличными и всяким товаром и недвижимым отходил скопческому кораблю Ивана Несмеянова, где умерший был первым апостолом. Внизу же Момон приписал: «Безделицу, весьма мне дорогую при жизни, каковая в виде соловья и оченно поет, я завещаю любезному братцу моему Якову Шумову...»
Момон вдруг почувствовал поначалу облегчение; но душу кольнуло безотчётно, и скопец нарочито рассмеялся. «Баба-то мне грозила: я твоя смерть. На-ко выкуси, проказа сатанинская, я крестом на тебя. Может, завтра и подарить? Пусть братец в ножки падет да расцелует. Имение, капитал, безбедной жизни лет тридцать в деревенской глуши. А ежели распорядиться с умом, то эвон в какую гору шагнуть можно. Я-то с рубля начинал, мне никто щедрых подарков не делывал, я огорбател через свои каждодневные труды».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу