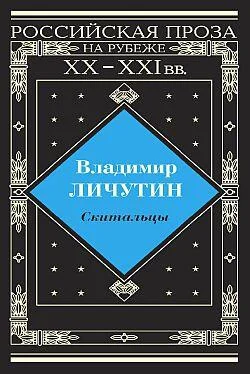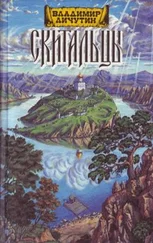Калину отдали из-под стражи на поруки канцеляристу Патрикею Аксенову и мезенской команды драгуну Ивану Ершову, и взята была с мужика подписка, чтобы жил он на городе Мезени в верхней слободе и до решения дела никуда не отлучался, а еще было объявлено ему, «чтобы впредь с лихими людьми, татями и разбойниками обхождения не имел и об них, когда узнает, объявлял».
И только в самую весну Степку Рочева обули в колодки, потом секли прилюдно на Мезени и в Дорогой Горе и по этапу отправили в Сибирь. И, знать, набегался с той поры верховой няфтенский парень, потому что след его канул в полуночной стране, откуда редко кто являлся назад.
А Павле Шумовой и Калине Богошкову по всемилостивейшему указу царя плети заменили батогами, и на деревенском сходе прилюдно выпороли за их доброту. Павла к весне совсем сникла и постарела, снежный волос родился на голове, а на впалых щеках проступила пятнистая ржавчина: нежданно затяжелела девка. И когда ей бесстыдно заголили спину, заворотив на голову юбки, как в ту единственную ночь, она гак же покорно лежала и только выла, не сдерживая себя, и украдкой упиралась локтями, чтобы не давить животом в скамью.
Одно начало, да разная дорога
Поморская поговорка
Тайку на этом свете не ждали.
Сына просил у Бога Петра Чикин, потому как все девки рожались, одна за другой, попридержать бы их, а нужен наживщик был, чтобы землю на него отрезали, чтобы за сохой мог стоять. Петра самолично двери настежь отворил, все замки спрятал; с Гутьки кольцо серебряное тонкое снял и косу расплел, только знай рожай сына, жонка. Да и Августе попреки в горле встали, рада хоть пятерых парней разом принести, только бы не точил мужик гнусливыми словами, да и понимала бабьим умом, что женские годы под гору покатились, вот и живот частенько постанывает ныне. Потому и крепилась Августа, и брюшину затягивала, чтобы в глаза людские не бросалась; скрывала она, что на сносях, как бы не сглазили колдуньи-еретницы.
Перед тем как Тайке родиться, было над деревней знамение. Еще утренняя заря не отгорела и печально и багрово потухала, покрываясь серым пеплом мглистого неба, и солнце еще не проклюнулось из снежных заводей, как за второй Пыей, на синих лесных склонах, родились и стали пухнуть два мутно-холодных шара. Они были подернуты изморосью и весь день тащили за собой похожее на донце медной кружки крохотное солнце и до самой вечерней зорьки колыхались, то вытягиваясь оранжевыми столбами, то странно расплющивались, иль стояли красными языками, подобием пламени великаньей свечи. За весь день тусклое солнце так и не проклюнулось сквозь розовое марево и вместе с ним вернулось в снежные облака.
Людям было страшно. В тот день в Дорогой Горе не гасили лампадок, крестьяне сулили всяких напастей, а где-то за полночь в самую потемь так закуревило – Божий страх. Метель билась в старые стены, тоскливо пуржила, накатисто ударяла в волоковые оконца, словно нащупывала слабину, и тогда казалось, что изба Чикиных скоро не выдержит и падет на колени. Порой ветер катился через поветь, совался в неплотно прикрытую дверь меж соломенными обвязками, и снежная пыль легко носилась над самым полом. Баба Васеня не стерпела, тяжело спустилась с печи, сняла с засторонка жирничок.
– Находальники, стомоногие жеребцы, носит взад-вперед, а уж двери прикрыть не помыслят, – захотела отпахнуть пошире дверь, чтобы заново прикрыть плотнее, но она отпотела, разбухла, а может, наросли на пороге наледи, – и пришлось брякать ногой. Тут и всполошилась неожиданно дочь, захлебнулась в крике. Баба Васеня с жирником побежала к Августе, закричала зятю...
– О-о-о, чешись больше. Осподи!
Петра скорее к повитухе Соломониде, хорошо рядом, на самых задах жила старушка-девица. Потом снег отвалил от бани, запалил каменицу. Березовые полешки положены были загодя и схватились сразу. Не успела выстояться баня, и Августу привели, готовое дело. Петру выгнали вон – не мужское дело быть при родах. Соломонида растелешила роженицу, в пар пока не повела, угар еще гнездился под низким потолком. Вдвоем с бабой Васеней водили Августу в сенцах да потряхивали: той было больно, она кричала животным голосом, но освободиться не могла.
– Ты поплачь, ты пореви, – бормотала баба Васеня, необычно жалея дочь. – Осподи, через горе да на горе, вся-то и жизнь. Ведь говорено было, не ешь хлеба ячменного, а ты все ись хочу да ись хочу, вот и нажоралась, – вдруг закричала на Августу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу