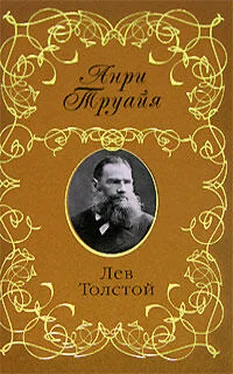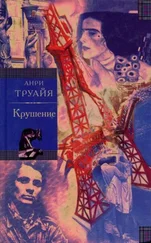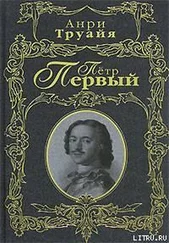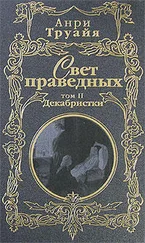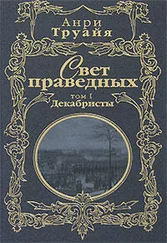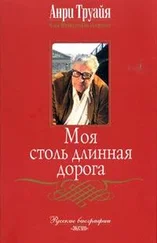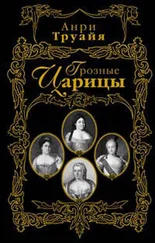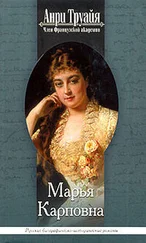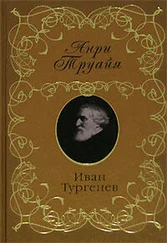Когда первая радость прошла, Толстой с досадой обратил внимание на то, что среди всех похвал не было ни слова о деньгах, а его финансовое положение было очень стесненным. Поразмыслив несколько дней, написал в Санкт-Петербург, чтобы получить необходимые объяснения. Это письмо разминулось с сообщением Некрасова, что роман сдан в печать. Быть может, он еще раз обратился к редактору, так как тот отправил ему третье письмо: «Что касается вопроса о деньгах, то я умолчал об этом в прежних моих письмах по следующей причине: в наших лучших журналах издавна существует обычай не платить за первую повесть начинающему автору, которого журнал впервые рекомендует публике… за дальнейшие ваши произведения прямо назначу Вам лучшую плату, какую получают наши известнейшие (весьма немногие) беллетристы, т. е. 50 р. сер. с печатного листа… Мы обязаны знать имя каждого автора, которого сочинения печатаем, и потому дайте мне положительные известия на этот счет. Если Вы хотите, никто, кроме нас, этого знать не будет».
Только 31 октября Толстой получил по почте номер «Современника» со своей повестью. Но, насладившись видом своей прозы, напечатанной черным по белому, как произведение настоящего писателя, пришел в ярость от того, что Некрасов сделал купюры и даже изменил название на «Историю моего детства». Он излил свою желчь в письме, которое так и не решился послать. Тон отправленного вместо него и подписанного был тоже слишком решительным для начинающего: «Я буду просить Вас, милостивый государь, дать мне обещание, насчет будущего моего писания, ежели Вам будет угодно продолжать принимать его в свой журнал – не изменять в нем ровно ничего». [130]
Приступая к работе над «Детством», Толстой не собирался писать историю своей семьи, он хотел рассказать о своих приятелях Владимире, Михаиле и Константине Иславиных и их отце, которого хорошо узнал в Москве и который имел «характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула… был знаток всех вещей, доставляющих удобства и наслаждения». Он вывел его на страницах своего романа довольно точно, мать, напротив, была придумана от начала и до конца. Неизбежно, пытаясь воспроизвести жизнь этой семьи, автор стал обращаться к собственным воспоминаниям, и понемногу именно они стали во главу повествования. Позже он посчитал, что «вышло нескладное смешение событий их [Иславиных] и моего детства». [131]В брате рассказчика, Володе, легко узнать черты брата Льва Николаевича – Сергея, Любочка – почти точная копия Марии, неизменной перешла в «Детство» и бабушка; Карл Иванович – не кто иной, как Федор Иванович Рёссель, а Saint-Jérôme – Проспер Сен-Тома; Наталья Савишна жила во плоти и крови в Ясной Поляне под именем Прасковьи Исаевны; князь Иван Иванович напоминал князя Горчакова; в Соне Валахиной угадывалась Сонечка Калошина, первая любовь автора; что до братьев Ивиных, то они имели много общего с братьями Мусиными-Пушкиными; чувства же самого рассказчика, Николеньки Иртенева, его взаимоотношения с близкими и слугами, взгляд на природу и животных были те же, что испытывал в его возрасте Толстой. Так, в этом первом произведении, где вовсе не хотел писать о себе, он безотчетно излил всю свою нежность к годам детства. Пятьдесят лет спустя Лев Николаевич сказал об этой книге, которую теперь больше не любил, что написал ее под влиянием сильно подействовавших на него тогда писателей – Стерна (его «Сентиментального путешествия») и Тёпфера («Библиотеки моего дяди»). Наверное, к ним можно было бы добавить Руссо, Диккенса, Гоголя и – почему бы и нет – Стендаля.
В действительности, под чьим бы влиянием он ни находился, с первых же страниц Толстой показал, что не похож ни на кого. Инстинктивно пытался уйти от принятого описания людей и вещей, проникнуть в мир человека, который ничего не читал, ничему не учился и самостоятельно совершает свои открытия. «Когда я писал „Детство“, то мне казалось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства», – вспоминал Толстой в разговоре с В. Булгаковым в последний год своей жизни. Заботила его искренность и честность не только изображения, но и мысли. Он писал не для того, чтобы понравиться, но чтобы как можно точнее воспроизвести все нюансы жизни. Чтобы найти самую короткую дорогу к сердцу читателей, пытался освободить язык от надоевших метафор, отбрасывал напыщенные сравнения, все эти слезы как жемчуг и сверкающие как алмазы глаза. В черновиках к «Детству» замечал, что губы никогда не казались ему коралловыми, но кирпичными, глаза скорее напоминали воду с синькой, приготовленную для стирки, чем небо. По его мнению, французы всегда были склонны сравнивать свои впечатления с произведениями искусства. Лицо? Оно напоминает такую-то статую… Природа? Она похожа на такую-то картину… Беседующие люди? Это сцена из такой-то оперы или такого-то балета… Но прекрасное лицо, природа, живые люди всегда прекраснее статуй, картин и декораций!
Читать дальше