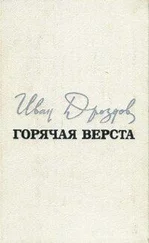– Как?
– А так. Статью напечатали, на всех уровнях одобрили, а меня – по шапке.
Он снова долго, старательно чертил карандашом, шумно дышал. Потом стал легонько напевать. А уж затем оторвался от полосы, взглянул на меня сквозь толстые стекла очков. Карие глаза его, увеличенные очками, казались бездонными.
– А ты чего хотел? Премию, орден?… Другим накидал синяков и шишек, а как его задели – сразу в слезы! Ну, нет, брат, в драке так не бывает.
И снова уперся взглядом в полосу газеты.
Я поглубже уселся в кресле, приготовился слушать. В по-отечески доброй, участливой интонации слышал готовность собеседника подробно обсудить мои дела, сообщить мне что-то важное. К тому времени я уже хорошо знал этого благородного, умнейшего человека, его полушутовскую-полусказочную манеру говорить с молодыми сотрудниками; не однажды слышал, как он в подобном же роде говорил и с евреями, но в этих случаях грань откровения опускалась ниже, и добрых, отеческих советов он им не давал. Наверное, они улавливали эту разницу, может быть, о ней догадывались, но если русские отзывались о Гребневе с неизменной теплотой, то евреи о нем говорили редко, а если упоминали, то не иначе как с иронией, называя его «тишайшим».
– Мы в какой стране живем? – спросил он неожиданно, и так тихо, что я едва расслышал.
– В России, Алексей Васильевич. При самом справедливом социалистическом строе.
– В России, говоришь? – возвысил он голос.- Ну вот, ты опять все перепутал. Даже не знаешь, в какой стране мы живем. Ты институт-то кончил или так… по коридорам прошел? Страна у нас Советским Союзом зовется, а ты – Россия… Где она, твоя Россия? Сказал бы еще – РСФСР, а то – Россия. Запиши себе в блокнотик, а то еще скажешь где-нибудь.
И вновь чертил карандашом, и тяжко вздыхал, и – пел. И покачивал головой, сверкая очками.
Я смотрел на него с сыновней любовью, вспоминал, как он до войны и во время войны работал на Дальнем Востоке редактором «Приморской правды», а полковник Сергей Семенович Устинов, мой прежний начальник по «Сталинскому соколу», редактировал там военную авиационную газету «Тихоокеанский сокол». Мой друг по военной журналистике Сережа Кудрявцев, работавший в этой газете, любовно называл ее «Тихоокеанским чижиком»… Все это перебрасывало незримый мост между мной и Гребневым, рождало, как мне казалось, особое дружеское доверие.
– А кто нами правит? – оторвался он от полосы и в упор нацелился очками.
– Нами… Аджубей Алексей Иванович.
– А им кто правит?
– Им?… Ну, там сидят… на Старой площади. Наверное, сам генеральный секретарь.
– А тем кто правит?
– Над тем власти нет. Он и есть власть… надо всеми.
Гребнев качал головой. И в глазах его я читал искреннее сочувствие, будто он жалел меня за то, что я простых вещей не понимаю.
Он снова взял в руки карандаш, склонился над полосой. И чертил долго, и уже не пел, не вздыхал шумно, а о чем-то сосредоточенно думал. Потом так же тихо, как и вначале, заговорил:
– Сталин на что был крут и горяч, а все тридцать лет смирненько сидел в кармане. У кого? А?… Не знаешь?… Чего же ты тогда знаешь. А еще собкором на Урале работал! А таких простых вещей не знаешь. Ну так вот, сидел и посиживал. И очень ему хотелось на травку выбежать, босиком побегать, ан нет, не пускали. Кто не пускал? А уж этот вот вопрос самый главный.
Я, конечно, понимал, у кого в кармане сидел Сталин, и от кого мы теперь с ним зависели в газете,- понимал, но молчал.
Алексей Васильевич выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда бумажку. Разглядывая ее, проговорил:
– В конце прошлого века у нас в России организовался так называемый Ишутинский кружок «Ад». Ты не слышал о нем?
– Нет, не слыхал.
– Так вот, в программе этого кружка было записано: «Личные радости заменить ненавистью и злом – и с этим научиться жить».
Он спрятал в столе бумажку, тихо добавил:
– Иди домой. И жди звонка из редакции.
Я ушел, а дня через три мне позвонили из редакции: приказом главного редактора я назначен специальным корреспондентом.
Меня, конечно, эта весть обрадовала. Должность мне дали престижную – она была более высокой, чем собственный корреспондент по Южному Уралу.
Постоянного места у меня в редакции не было. По новому положению я мог приходить на работу, а мог и не приходить, однако не чувствовал за собой такого права, каким обладали «классики» газеты. Надо сказать, что к тому времени в узкий ряд специальных корреспондентов втиснулись новые люди: Аграновский, Морозов и еще кто-то. Они сразу же повели себя как «классики» – на летучках сидели особняком, ближе к главному, в редакции не появлялись неделями. Меня же безделье томило, а сознание бесполезности не давало покоя. Почти каждый день приходил я в редакцию, примерялся, где приклонить голову и что делать.
Читать дальше