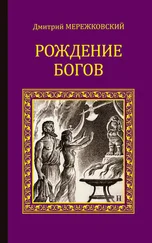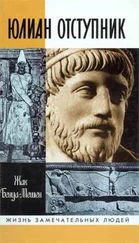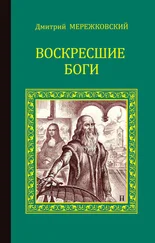Вдруг ослабел и закрыл глаза рукою. Вестник, ни живой, ни мертвый, успел юркнуть в дверь.
– Завтра, – бормотал Констанций глухо и растерянно, – завтра в путь… прямо, через горы… ускоренным ходом, в Константинополь!..
Евсевий, подойдя к нему, склонился раболепно:
– Блаженный Август, Господь даровал тебе, Своему помазаннику, одоление над всеми врагами и супостатами: ты победил буйного Максенция, Констана, Ветраниона, Галла. Ты победишь и богопротивного…
Но Констанций, не слушая, прошептал, качая головой, с бессмысленной улыбкой:
– Значит, нет Бога. Если только все это правда, значит, Бога нет; я – один. Пусть кто-нибудь осмелится сказать, что Он есть, когда творятся такие дела на земле. Я уже давно об этом думал…
Вопросительно обвел он всех мутными глазами и прибавил бессвязно:
– Позвать другого.
К нему приступил врач, придворный щеголь с бритым розовым наглым лицом, с бегающими рысьими глазками, еврей, притворявшийся римским патрицием. Подобострастно заметил он императору, что чрезмерное волнение может быть ему вредно, что необходим отдых. Констанций только отмахнулся от него, как от надоедливой мухи.
Ввели другого вестника. Это был трибун цезарских конюшен, Синтула, бежавший из Лютеции. Он сообщил еще более страшную весть: ворота города Сирмиум открылись перед Юлианом, и жители приняли его радостно, как спасителя отечества; через два дня он должен выйти на большую римскую дорогу в Константинополь.
Последних слов вестника император как будто не расслышал или не понял. Лицо его сделалось странно неподвижным. Он подал знак, чтобы все удалились. Остался Евсевий, с которым хотел он заняться делами.
Через некоторое время, почувствовав утомление, приказал, чтобы отвели его в спальню, и сделал несколько шагов. Но вдруг тихо простонал, поднес обе руки к затылку, как будто почувствовал сильную мгновенную боль, и пошатнулся. Придворные едва успели его поддержать.
Он не потерял сознания: по лицу, по всем движениям, по жилам, напрягавшимся на лбу, заметно было, что он делает неимоверные усилия, чтобы говорить; наконец, произнес медленно, выговаривая каждое слово шепотом, как будто сдавили ему горло:
– Хочу говорить… и не… могу…
То были последние слова его: он лишился языка; удар поразил всю правую сторону тела; правая рука и нога безжизненно повисли.
Его перенесли на постель.
В глазах была тревога и напряженная, непотухавшая мысль. Он усиливался сказать что-то, отдать, может быть, важное приказание, но из губ вырывались неясные звуки, походившие на слабое непрерывное мычание. Никто не мог понять, что он хочет, и больной поочередно обводил всех ясными глазами. Евнухи, придворные, военачальники, рабы толпились вокруг умирающего, хотели и не знали, чем услужить ему в последний раз.
Порою злоба вспыхивала в разумном пристальном взоре; тогда мычание казалось сердитым.
Наконец, Евсевий догадался и принес навощенные дощечки. Радость блеснула в глазах императора. Крепко и неуклюже, как маленькие дети, левою рукой ухватился он за медный стилос. После долгих усилий удалось ему вывести на мягком слое желтого воска несколько каракуль. Придворные с трудом разобрали слово: «креститься».
Он устремил на Евсевия неподвижный взор. Все удивились, что раньше не поняли: императору угодно было креститься перед смертью, так как, по примеру отца своего Константина Равноапостольного, откладывал он великое таинство до последней минуты, веря, что оно может сразу очистить душу от всех грехов – «обелить ее паче снега».
Бросились отыскивать епископа. Оказалось, что в Мопсукренах епископа нет. Позвали арианского пресвитера бедной городской базилики. Это был робкий, забитый человек, с птичьим лицом, острым красным носом, похожим на клюв, и острой бородкой. Когда пришли за ним, отец Нимфидиан – так звали его – приступал к десятому кубку дешевого красного вина и казался слишком веселым. Никак не могли ему втолковать в чем дело; он думал, что над ним смеются. Но когда убедили его, что предстоит крестить императора, он едва не лишился рассудка.
Пресвитер вошел в комнату больного. Император взглянул на бледного, растерянного и дрожащего отца Нимфидиана таким радостным, смиренным взором, каким еще не смотрел ни на одного человека во всю свою жизнь. Поняли, что он боится умереть и торопит совершение таинства.
По городу искали золотой или, по крайней мере, серебряной купели, но не нашли; правда, был роскошный сосуд, с драгоценными каменьями, но весьма подозрительного употребления: предполагали, что он служил для вакхических таинств бога Диониса. Предпочли все-таки несомненную христианскую купель, хотя старую, медную, с грубо вдавленными краями.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу