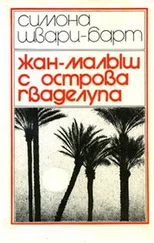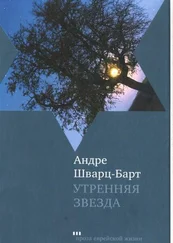— Хоть бы кто-нибудь меня избавил от вас! — закричал он однажды на Биньямина.
— Извините, — пролепетал Биньямин. — Я как раз работу нашел… решил устроить маленький праздничный ужин… Понимаете?
— Убирайтесь-ка вы отсюда, — сказал молодой человек уже спокойнее, почти великодушно. — Знаю, знаю: вам ужасно хотелось найти работу. Я заранее себе представлял, как вы будете из кожи вылазить в тот день, когда найдете ее, и от счастья на седьмом небе окажетесь. Вот я и поздравляю вас. Чего вам еще?
— «А у кого не будет вечером куска хлеба?» — затянул Биньямин.
Мягкий свет озарил тусклые глаза молодого человека, потом ровное пламя затрепетало и вдруг вспыхнуло непонятной злобой.
— Вот вы и ешьте за меня! — вызывающе выкрикнул он.
Биньямин предусмотрительно попятился назад под дружный ропот соседних «жильцов». Они единодушно клеймили позором молодого человека из Галиции, хоть их и коробило слишком хорошее отношение к нему Биньямина — они усматривали в столь деликатном обращении некий упрек их рассудительности добропорядочных людей.
Вернувшись в свою «комнату», Биньямин оглянулся: молодой человек уже успел принять обычную позу — обхватил голову руками и весь ушел в никому не ведомые мечты; эти мечты надежно охраняли его одиночество от окружающего мира и враждебные взгляды двух сотен людей для него не существовали. «О чем он все-таки думает?» — спрашивал себя Биньямин, испытывая острую тревогу не только от присутствия молодого человека из Галиции, но даже при одной мысли о нем.
Биньямин уткнулся в котелок и без всякого удовольствия принялся за кошерные сосиски. «Я, наверно, слишком надоедаю этому несчастному парню, но если бы он только знал, как мне и больно и тепло в его обществе…»
На минуту перестав жевать, Биньямин, наверно, в тысячный раз вернулся к наболевшему вопросу: пресловутое «острие» колет только других или его самого тоже?
Однако Биньямин почувствовал большое облегчение (хоть и упрекнул себя в том), когда на следующий день, проходя по дороге на работу мимо молодого человека из Галиции, убедился, что тот едва скользнул по нему пустым взглядом. Молодой человек лежал на кровати одетый и бесцеремонно выставил босые грязные ноги прямо под нос детям, которые играли возле него в «коридоре», стучась в воображаемые двери. На его лице не дрогнул ни один мускул. Да, он окончательно перерубил последнее волокно слабого крепления, удерживавшего его еще в синагоге, и теперь Биньямину казалось, что он с каждым днем все дальше и дальше уходит от родного берега, плывет на своей кровати в открытое море, известное лишь ему одному, и только грозные бури отражаются в его глазах.
Однако молодой человек из Галиции, с которым у Биньямина, как он считал, все было кончено, появился в его жизни снова — на сей раз в образе товарищей Биньямина по швейной мастерской. Они тоже были заражены (правда, в меньшей степени) «берлинской лихорадкой», как он сам назвал это душевное состояние, когда пришел его черед испытать это состояние на себе.
Все работники господина Фламбойма были беженцами, уцелевшими от погромов. И, хотя на всех остались, можно сказать, следы кораблекрушения, в мастерской царила атмосфера язвительной насмешки и горькой иронии по поводу прошлой жизни в Польше или в России, которую они старались представить в более черном свете, чем она была на самом деле. Какой-то бесовский дух вселился в этих несчастных людей. Он превращал чистую воду в кровь, уничтожал на корню само понятие добра, не давал взрасти ни одному побегу еврейской мысли. Биньямин протягивал руку, и ему чудилось, будто он видит, как на ней появляются когти. Он никому не противоречил, благоразумно не поднимал головы от иголки, но это не помогало: все копья, стрелы и шпильки были направлены именно против него. Над ним потешались. Однажды в отсутствие хозяина закройщик по имени Лембке Давидович вскочил на стол и, «по-берлински» оскалившись, не то серьезно, не то плаксиво выкрикнул:
— Послушайте, если наш раввинчик будет и дальше оставаться девственником, у него на спине крылышки вырастут! Вот будет здорово! Всем хватит пищи! Вы или я, или последний немецкий сморчок — кто только проголодается, тот и цапнет себе крылышко или лапку, и — пожалуйста, ешь на здоровье! А знаете, что будет потом? Кроме ангельского сердечка, ничего не останется! А скажите мне, дорогие мои соотечественники, кто позарится на сердце, на этот дряблый кусочек мяса? Грош ему цена в базарный день! Даже на берлинской бирже он и то не котируется! И вот тогда возьмут этот жалкий ошметок, усадят в поезд, и ту-ту! Гремите, Божьи трубы: еврейское сердечко едет домой!
Читать дальше
![Андре Шварц-Барт Последний из праведников [Le Dernier des Justes] обложка книги](/books/30712/andre-shvarc-cover.webp)