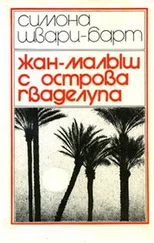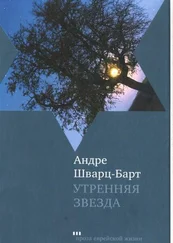— Дикие звери, — наставительно сказал дед.
Когда первые удары начали расшатывать дверь, Биньямин предложил прибить поперечные планки, но Мордехай только пожал плечами, и они поднялись на чердак, куда уже спряталась вся семья. Мордехай запер двери на ключ. Слабый свет падал через чердачное окно на окаменевших от ужаса Леви. У барышни Блюменталь со страху стучали зубы; малыши сбились в кучу и цеплялись за ее юбку. Муттер Юдифь, держа на руках младенца, легонько зажимала ему рот носовым платком. Шум внизу нарастал. Зазвенели разбитые стекла. Мордехай подошел к стопке священных книг и еще раз на ощупь проверил, все ли они на месте, чтоб ни одна не досталась грабителям. Эрни держал Свиток Торы, отданный на хранение семейству Леви во время пожара в синагоге. Мордехай надел филактерии на лоб и на запястье, покрылся талесом и застыл, как уснувший утес, вырисовывающийся в темноте, — только губы шевелились. Яков почувствовал, что вот-вот закричит…
— Мама, — простонал он, — мне не удержаться, я сейчас начну кричать, зажми мне, пожалуйста, рот.
Эрни разглядел, как поднялась рука барышни Блюменталь, и в этот же миг на лестнице раздался пронзительный голос, перекрывший весь остальной шум:
— Наверху! Они наверху!
Эрни положил Свиток на пол и схватил железный брус, который припас на всякий случай. Увидев это, дед подошел и ударил его по лицу.
— Ради спасения жизни потерять ее смысл?
Дверь чердака уже дрожала под ударами. За ней о чем-то торопливо переговаривались, и вдруг раздался дрожащий, умоляющий голос старого обойщика с Ригенштрассе:
— Послушайте, господин Биньямин, уж очень они разошлись. Дайте нам бросить в костер ваши священные книги, хотя бы книги, господин Биньямин…
— Только книги? — спросил Биньямин.
— Для начала только книги, — послышался издевательский голос.
— Нет, нет, — снова заговорил обойщик. — Только книги. Остальное — через мой труп. Они… — Дальше его голос потерялся в общем шуме.
Мордехай наклонился, поднял железный брус, который Эрни выпустил из рук, и медленно, но удивительно ловко подошел к двери. Он распрямился, словно вырос, расправил плечи и обернулся к сгрудившемуся в темноте, стонущему семейству. Эрни заметил металлический блеск зубов и услышал странный, горький смех, прорывающийся между почти безумными словами:
— Вот уже тысячу лет, как изо дня в день христиане стараются нас убить — ха-ха! — а мы все это время изо дня в день стараемся выжить — ха-ха! И нам это удается. А знаете, почему, ягнята мои?
Он вдруг резко вернулся к двери и упер в нее железный брус. От этого рывка филактерии и талес упали на землю.
— Потому что никогда не отдаем мы своих священных книг! — вскричал он, вкладывая в свои слова необычайную силу. — Никогда! Никогда! Никогда! Скорее мы отдадим душу, — добавил он, когда под брусом со страшным грохотом треснула дверь. — Душу вам отдадим, — докончил он, как в бреду, и в ярости его звенело последнее отчаяние.
Он вытащил брус из рассеченной двери, оперся на него, широко расставив ноги, как дровосек, уверенный в своем топоре. Потоки света хлынули через разбитую дверь, снова раздались крики, но уже на лестнице, и они стали словно бы потише. Пот, покрывавший скулы деда, заблестел у него и на усах. Потом Эрни увидел, что он катится у деда из печальных глаз.
— Какой позор… в моем возрасте… какой позор…
Эрни тем более запомнились эти минуты, что, утратив связь вещей, он сосредоточил все свое внимание на малейших подробностях. Так, например, у господина Леви-отца на самом кончике носа повисла капля настоящего пота, и она мучительно преследовала Эрни. Она пугала его, как крики на лестнице, сверкала страшнее булыжника, неожиданно брошенного в дверь, была ужаснее, чем наступившая после погрома тишина.
3
11 ноября 1938 года только в одном Бухенвальде было принято со всеми обычными формальностями более десяти тысяч евреев, и громкоговоритель вещал: «Каждого еврея, который желает повеситься, просят держать во рту записку со своим именем, чтобы его можно было опознать». А 14 ноября все семейство Леви в полном составе развернуло знамя эмиграции и с тюками в руках перешло через Кельский мост.
И еще через полтора месяца семейство Леви уже усматривало в пережитом погроме перст Божий. Что же касается Муттер Юдифи, то она усматривала не один перст, а всю руку. Для этого были некоторые основания, ибо все, что под небом именуется демократией, решило отплатить Германии той же монетой: приговор гласил, что в наказание за антисемитизм Германии придется держать своих евреев при себе. Это мудрое решение было принято в тот момент, когда нацизм, задыхаясь от «жидовского духа», разрешил жидовскую эмиграцию через Гамбург. Хлынувшие в этот порт десятки тысяч немецких евреев столкнулись с непреодолимым препятствием: все без исключения демократии сказали свое слово: «Визы нет». Некоторые евреи все же успели попасть на корабли. Из чистой гуманности их не пустили ко дну; евреям было любезно разрешено умирать у причалов Лондона, Марселя, Нью-Йорка, Тель-Авива, Малакки, Сингапура, Вальпараисо и у всех других причалов, какие им только понравятся.
Читать дальше
![Андре Шварц-Барт Последний из праведников [Le Dernier des Justes] обложка книги](/books/30712/andre-shvarc-cover.webp)