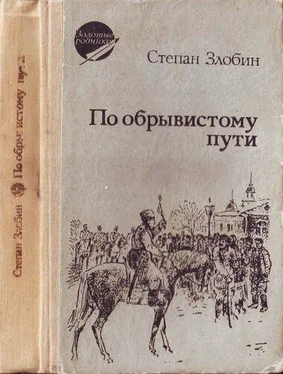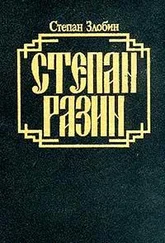— Начальство меня, солдатик, уважило. Сорок пять лет, говорю, я трудился на фабриканта, руку правую прожил, а денег не нажил. Хочу на старости посмотреть, как там без меня в родной деревеньке. Говорят, мужики богато живут — от хлебушка рыла воротят, на мякину, на лебеду потянуло их с сытого брюха!.. Дайте мне, говорю, по чугунке бесплатный проезд. Господин пристав смотрит, что я человек уважительный, и говорит: «Ладно, дам я тебе проездное свидетельство на казенный счет и олуха на дорогу дам для почета и бережения твоего добра!» — Антон хлопнул ладонью по своей нищенской суме.
В вагоне захохотали.
— Слушай, старик! — рассердился городовой. — А как я тебя сдам в Рязани в острог да отрекусь тебя дальше везти за оскорбление личности при служебном моем исполнении, что ты тогда запоёшь? Как запрут тебя в пересылку месяца на три, этапа попутного ждать!..
— Да что ты серчаешь? — обратился к полицейскому хмельной парень. — Ведь он, старичок-то, какой весёлый! Руки нет. Другой бы охал, стонал, на бога роптал бы, а он всё в смешки. Весь народ потешает, как в балагане…
— Было, плакал и я, как руку-то оторвало, — сказал Антон. — На печку лез, плакал. Да, на печи сидючи, вся и плакалка высохла. Нынче мне либо смех, либо злость… Что ты, Еремей, меня пересыльной пугаешь! — обратился он снова к городовому, — Там ведь кормят! А ты без крошки хлеба по три дня сиживал?! В остроге-то кры-ыша! А в деревню приду — там есть крыша? Нету! В остроге-то печки топлены, а там у меня ведь и печки нет! И лаптя себе я одной-то рукой не сплету! Да нешто такого, как я, запугаешь?! Пугач нашелся! Тебя держать пугалом в огороде, а не в народе. Народ-то и так уж и напуган и руган. Ничем его не возьмешь — ни огнем, ни железом: шкуру сняли — все жилки наруже: у кого чахотка, а у кого сухотка! Нас на кладбище под рогожками возють, нас без гробов закапывают!..
— Хоть бы тебя, окаянного, закопали! — опять прорвался конвоир. — Навязался ты мне…
— Вот олух! Ты же суточны за меня получаешь и бесплатный проезд, земляк дорогой! Тебе бы лишь радоваться, что меня тебе бог послал! — возражал Антон.
Народ развлекался их перебранкой. Соседи угощали Антона. Ему подносили выпить, с ним делились едой, перепало и городовому.
— Дедушк, а дедушк! А как же ты вправду-то станешь в деревне жить без руки? Родные-то есть у тебя? Не примерли? — спросила молодка с тремя ребятами.
— Ах ты краса моя ласковая, заботушка! Спасибо на добром слове. Сестра у меня родная жива, — отозвался Антон. — Да нешто я чумовой?! У ней-то семеро ребятишек. Как же мне к ней показаться, к сестренке? И на порог я к ней не взойду.
— А куды же ты денешься, дед? — спросил и солдат.
— В попы меня не возьмут, это точно. В полицейские сам не пойду — должность-то не по мне, да не так и сподручно одной рукой людей в ухо бить: ещё сдачи получишь! Не то пойду барином наниматься куда к мужикам, где барина не хватает, не то христарадничать под окошки…
— Житье! — качнул головой солдат.
— А надумаюсь, — може, в разбойники не возьмут ли! — добавил Антон.
— Слышишь, дед! Ведь ты из Гуськов? Аржанинову барыню знаешь? От вас в десяти верстах у ней именье и сад, а при саде школа, — сказал бородатый попутчик, крестьянин. — Сходи ты к ней, к барыне. Дарьей Кирилловной звать её. Разбойников ей не надыть, конечно, и в попы не возьмёт, а в саду у ней пасека. Может, на пасеку или куда там приставит стучать в колотушку от медведей, чтобы мед не ломали…
— Пугалом, значит? — усмехнулся Антон. — Спасибо за добрый совет…
— При-ехали, слазим! — радостно сказал полицейский, подхватывая корзинку с гостинцами, которые вез домой.
Поезд замедлил ход.
3
Как хорошо-то дышалось после полутора суток вагона. Прилетели, орали грачи на пашне и на деревьях, дрались. Над дорогой дышало солнцем и талым навозом, с гулкими вздохами сам собой оседал над полями плотный, покрытый жесткой корочкой наст. Сколько лет не дышал Антон этим добрым воздухом, не видал такого простора, окаймленного синей кромкой леса по небосклону.
— Подсажу? — предложил проезжий.
— Спасибо, не сяду, — отказался Антон и пояснил: — Господи, благодать-то! Ведь я сто годов не топтал родимой дороженьки, потопаю так!
— А какие же ты дорожки топтал? Аль в Сибирке? — спросил мужик, впрочем, не придавая вопросу ни опасения, ни укора: все, мол, ходим под богом да под царем. Кому уж какая доля. Кто в солдатах загинет, кто и на заработках от голоду да болезней ноги протянет, а кто ив острог попадет, не всегда за свою вину, а то и совсем без вины — за правду. Ведь бедного правда богатому не люба, — что же дивного, и засудят! Да все же родная земля есть родная!
Читать дальше