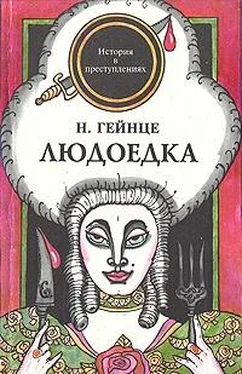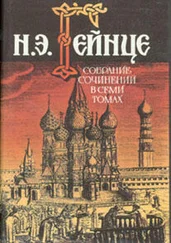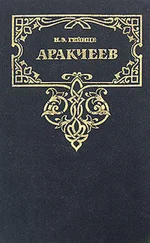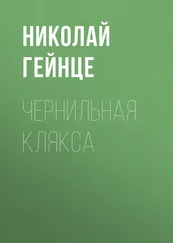— Ты что же это, брат Кудиныч, мо-то не школишь? — обратился сержант к учителю, после нескольких дней, видя, что приготовленные им лозы до сих пор не употреблены с научной целью.
— Оставь… — заметил мрачно учитель.
— Чего оставь?.. — рассердился Иванов. — Коли ты нанялся и деньги берешь, так учи!..
— Я и учу…
— Как же ты учишь, когда ни прута не тронул?
— Значит, не надобно…
— Как не надобно, какая эта наука, девчонка — змея подколодная, ее надо драть до полусмерти, а он — не надо…
— Так и дери… — все так же мрачно отвечал Кудиныч.
— Дери… — задумчиво произнес сержант. — Зачем мне драть, я тебя нанял.
— Драть?
— Учить…
— Я и учу…
— Да ведь других дерешь?
— Деру…
— Дери и мою…
— Нет уж, твою дери сам…
— Что так, али тоже труса празднуешь?
— Да тут, я ее было хотел легонько кулаком в зубы, так она мне такую затрещину дала, что и сейчас не вспомнишь… — сознался учитель.
— Вот оно что… — беспомощно опустил руки сержант. — Учи уж так… Да учится ли?
— Учится, умная бестия…
— Умна, говоришь… — даже удивился Иванов.
Похвала уму его дочери польстила его отцовскому самолюбию, а страх, внушенный девчонкой такому опытному и строгому педагогу, как Кудиныч, утешил Николая Митрофановича в том смысле, что не он один из мужчин боится этого «исчадия ада», как он не раз называл свою дочь. Даша, несмотря на то, что сама давала тумаки своему учителю, окончательно с течением времени подчинившемуся своей строгой ученице, училась действительно хорошо и без вразумляющей и разъясняющей лозы. Памятью и сметливостью она поражала и прямо увлекала Кудиныча.
— Ну и голова у тебя дочь… — пускался он в похвалы своей ученице, когда изредка сержант оставлял его позабавиться анисовой водочкой, которую употреблял в память Великого Петра, при котором начинал свою службу.
— А ну ее в болото… — говорил обыкновенно отец.
— Чего ну… Сколько годов учительствую, а до сих пор такой башки не встречал, даже в нашем мужском звании…
— Да к чему ей башка-то, бабе…
Горькое чувство, что у него нет сына, снова поднималось в старике.
— Как к чему, тоже жить надо…
— И то правда, вековухой будет… — согласился отец.
— Зачем вековухой, из себя она изрядная.
— Что ж, что изрядная… Да кто же ее, идола, замуж возьмет… Кому жизнь-то постыла… Ведь зла-то как… зверь рыкающий.
— Зла-то, зла… — задумчиво говорил Кудиныч, — это так, поистине, что зверь рыкающий.
— То-то и оно-то…
— Ну, да как знать, наш тоже брат-мужик до красоты ихней падок…
— Жизнь проклянет, кто свяжется, я своими руками не отдам, тоже крест на шее есть, петлю на горло надевать человеку не согласен и сватов засылать никуда не буду…
— Сама подыщет, не таковская, чтобы в девках усидеть… — решил Кудиныч.
Года через три учитель объявил, что ученица выучена, и действительно, Даша усвоила почти всю его книжную мудрость и больше ее было ему учить нечему. Ученье произвело на нее как будто смягчающее действие, она стала тише и задумчивее, хотя по временам на нее находили прежние вспышки неистового гнева, от которого прятались отец с матерью и все домашние.
Особенно доставалось дворовой девчонке, старше ее на два года, Афимье, или Фимке. Дашутка била ее нещадно чем попало и по чему попало, и несчастная иногда по несколько дней не вставала со своей постели от побоев, в синяках же и кровоподтеках ходила постоянно. Это, однако, не уничтожало в Фимке какого-то странного чувства чисто собачьей привязанности к Дарье Миколаевне, как она звала свою барышню. Лучшей и более точной исполнительницы воли Даши последняя не могла бы сыскать даже среди крепостных служанок тех времен, отличавшихся преданностью и исполнительностью. Несмотря на переносимые Побои, почти истязания, Фимка готова была для Дарьи Николаевны пойти в огонь и в воду. Черноволосая, с задорным, миловидным личиком, Фима была, несмотря на далеко не веселое свое положение при своей драчливой барышне, всегда веселой и шаловливой. Этими своими свойствами она даже часто обезоруживала гнев Даши, и та, по-своему, даже любила ее или, по крайней мере, не могла без нее обходиться.
Склад жизни «чертова гнезда», как снова иногда начали называть домик Ивановых соседи, конечно, не был тайной для последних. «Девчонка-звереныш», как прозвали Дашу соседи, служила темой бесчисленных и непрерывных рассказов, тем более, что сам ее отец Николай Митрофанович с горечью жаловался на дочь всем встречным и поперечным и выражал недоумение, в кого она могла уродиться. Это привело досужих обывателей Сивцева Вражка к созданию целой легенды, по которой ни в чем неповинная Ираидз Яковлевна, «мать-звереныша», — такое было дано и ей прозвище, — обвинялась в сношении с нечистой силой.
Читать дальше