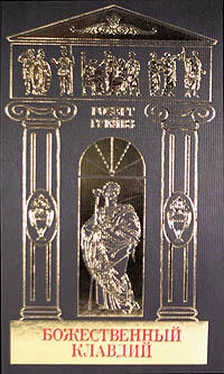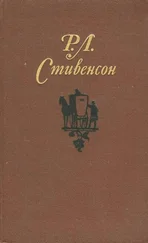Гета в отчаянии созвал своих солдат — те еле стояли на ногах — и спросил, нет ли у кого-нибудь случайно капельки пива. К счастью, среди них было несколько германцев из вспомогательных войск, и они предпочли взять с собой пиво, а не воду. В одном из мехов еще оставалось одна-две пинты. Гета уговорил их отдать это пиво ему. Затем поровну раздал оставшуюся воду, но пиво приберег для Отца Гва-Гва. Солдаты танцевали, пили воду и брызгали ею на песок, а сам Гета произносил предписанное заклинание. Отец Гва-Гва (по-видимому, имя его означает «Вода») был так доволен и поражен почестями, которые ему оказала эта внушительная компания абсолютных незнакомцев, что небо тут же потемнело от грозовых туч и начался такой ливень, длившийся трое суток, что каждая впадинка в песке превратилась в полную до краев лужу. Армия была спасена. Кочевники, посчитав ливень явным признаком благоволения Отца Гва-Гва к римлянам, смиренно предложили союз. Гета ответил отказом: пусть раньше выдадут ему Салаба. И вскоре Салаб был доставлен в цепях в римский лагерь. Гета и кочевники обменялись дарами, был заключен договор. Затем Гета двинулся обратно в горы, подошел с тыла к солдатам Салаба, все еще сторожившим перевал, и перебил или взял в плен весь отряд. Остальные силы мавров, увидев, что их вожака привезли в Танжер в цепях, сдались без боя. Так вот две пинты пива спасли жизнь двум тысячам римлян и дали Риму новую провинцию. Я приказал поставить храм Отцу Гва-Гва в пустыне за горами, где простирались его владения, и Марокко — я разделил его на две провинции: Западное Марокко со столицей в Танжере и Восточное Марокко со столицей в Кесарии — должно было обеспечивать его ежегодно данью в сто мехов самого лучшего пива. Я даровал Гете триумфальные украшения и просил бы сенат закрепить за ним наследственное имя Мавр («из Марокко»), если бы он не превысил свои полномочия, казнив Салаба в Танжере, не посоветовавшись сперва со мной. Это не диктовалось стратегической или тактической необходимостью, Гета сделал это только из тщеславия.
Я упоминал не так давно о рождении моей дочери Октавии. За это время и сенат, и народ стали все больше заискивать перед Мессалиной, так как было хорошо известно, что я передал ей большую часть своих обязанностей блюстителя нравов. Теоретически она считалась моей советницей, но, как я уже объяснял, у нее был дубликат моей личной печати, и она могла скреплять ею любые документы; кроме того, я позволил ей решать, в определенных границах, кого из сенаторов или всадников вывести из сословия за нарушение благопристойности и кем занять открывшиеся вакансии. Она взяла на себя также трудоемкую задачу судить, кто из претендентов на римское гражданство достоин его получить. Сенат хотел воспользоваться рождением Октавии, чтобы пожаловать Мессалине титул «Августа». Как я ни любил ее, я считал, что она еще не заслужила эту честь. Ей было всего семнадцать, а моя бабка получила этот титул только после смерти, а мать — в глубокой старости. Поэтому я отказал им. Но александрийцы, не спросив моего разрешения — а то, что было сделано, я отменить не мог, — выпустили монету, где на лицевой стороне был мой профиль, а на обратной — изображение Мессалины во весь рост в одеянии богини Деметры; на ладони одной руки она держала две фигурки, символизирующие сына и дочь, в другой — сноп пшеницы, символизирующий плодородие: лестная игра слов, так как латинское messis означает «урожай». Мессалина была в восторге.
Как-то вечером Мессалина робко вошла ко мне в комнату, молча, словно украдкой, взглянула мне в лицо и наконец, запинаясь, смущенно спросила:
— Ты меня любишь, дражайший муж?
Я заверил ее, что люблю ее больше всего на свете.
— А какие три столпа есть в храме любви, о которых ты говорил мне на днях?
— Я сказал, что храм любви поддерживается тремя столпами: добротой, искренностью и пониманием. Вернее, я процитировал слова философа Мнасалка, который это сказал.
— Тогда выкажи мне самую большую доброту и самое большое понимание, на которое способна твоя любовь. От моей любви понадобится только искренность. Перейду к делу. Если это не очень для тебя трудно, не разрешишь ли ты мне… не позволишь ли… некоторое время спать отдельно? Я не хочу сказать, что люблю тебя хоть на йоту меньше, чем ты меня, но у нас родилось двое детей за каких-то два года, может быть нам не стоит рисковать, может быть лучше подождать немного, прежде чем заводить третьего? Беременность — очень противная штука: по утрам меня тошнит, измучает изжога, расстраивается живот — нет, мне просто не выдержать такого ужаса снова. И, если честно, даже не говоря об этом, я почему-то не испытываю больше к тебе той страсти, что раньше. Клянусь, люблю я тебя не меньше, но скорее как дорогого друга и отца моих детей, чем как возлюбленного. Вероятно, когда появляются дети, мы отдаем им почти все наши чувства. Я ничего от тебя не скрываю. Ты мне веришь, да?
Читать дальше