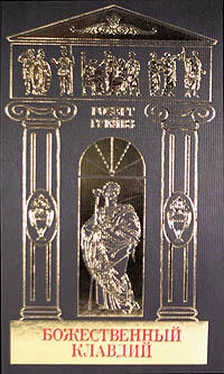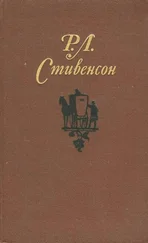Все эти месяцы Сила мрачно размышлял о нанесенных ему обидах и горел желанием рассказать о них кому-нибудь, кроме тюремщика. Он сказал Тавмасту: „Вот что, значит, просил сообщить мне царь Ирод, да? И я должен быть ему благодарен, не так ли? А какую еще милость он намерен мне оказать? Может быть, пожаловать мне орден Кнута? Неужели он ждет, что те страдания, которые я претерпел, заключенный в эту одинокую темницу, научат меня держать язык за зубами, если я сочту нужным сказать правду, чтобы усовестить его лживых советников и льстивых придворных? Передай царю, что мой дух не сломлен, и если он освободит меня, я отпраздную это тем, что стану высказываться еще откровеннее и резче; я расскажу всему народу, сколько мы вместе испытали злоключений и как мне удавалось в конце концов спасти положение, хотя он чуть не губил нас обоих, отказываясь следовать моим советам, и как щедро он меня за все это наградил железной цепью и тюрьмой. Мой дух после моей смерти этого не забудет, как не забудет все мои славные деяния ради него“. „Выпей вино“, — сказал Тавмаст. Но Сила отказался. Тавмаст пытался урезонить безумца, но он не желал пить вино и требовал, чтобы мне было передано все, что он сказал. Поэтому Сила по-прежнему в тюрьме, и я не вижу возможности его освободить, с чем согласна и Киприда.
Меня позабавила эта история в Дориде. Ты помнишь, как я сказал тебе на прощальном пиру, когда мы оба так налакались и были так откровенны друг с другом, как два самаритянина, что тебя обожествят, моя Мартышечка; и не старайся этому помешать. А насчет молочного поросенка, фаршированного трюфелями и орехами, я, кажется, знаю, что я имел в виду. Я теперь такой примерный иудей, что никогда, никогда, ни по какому поводу не беру в рот нечистой пищи — по крайней мере если я это делаю, об этом знают лишь я, мой повар-араб да луна, когда она заглядывает ко мне в окна. Я воздерживаюсь от свинины, даже когда гощу у своих соседей финикийцев или обедаю с моими подданными греками. Когда будешь писать, сообщи, что нового у старой лисы Вителлия и этих злоумышленников и интриганов Азиатика, Виниция и Винициана. Я засвидетельствовал — и самым велеречивым слогом — свое почтение твоей прелестной Мессалине в своем официальном письме. Поэтому до свиданья и по-прежнему думай хорошо (лучше, чем он заслуживает) о своем товарище детства
Разбойнике».
Сейчас я объясню насчет этой «истории в Дориде». Несмотря на мой эдикт, несколько молодых греков, жителей города Дорида в Сирии, достали где-то мою статую и, ворвавшись в еврейскую синагогу, водрузили ее в южной части помещения, как бы для поклонения. Местные евреи сразу же обратились к Ироду, своему естественному защитнику, а Ирод лично отправился в Антиохию к Петронию, чтобы выразить свой протест. Петроний написал судьям Дорида очень сердитое письмо, приказывая арестовать виновных и без промедления отправить к нему, чтобы он мог их наказать. Петроний указывал, что они совершили двойное преступление — оскорбили не только евреев, осквернив синагогу, где теперь нельзя совершать богослужение, но и меня, бесстыдным образом нарушив мой эдикт о веротерпимости. В его письме была одна любопытная фраза: что подходящее место для моей статуи не еврейская синагога, а один из моих собственных храмов. Я полагаю, что он думал, будто за это время я уступил уговорам сената и, с его стороны, будет любезно предвосхитить мое обожествление. Но я был тверд и наотрез отказывался стать богом.
Нетрудно себе представить, что александрийские греки лезли вон из кожи, желая заслужить мое благоволение. Они прислали депутацию, чтобы поздравить меня с восшествием на престол и предложить, что они построят за свой счет и посвятят мне новый храм или, если я это отвергну, построят и укомплектуют библиотеку италийских исследований и посвятят ее мне как самому выдающемуся из современных историков. Они также попросили меня разрешить ежегодно в мой день рождения устраивать публичные чтения моих трудов «История Карфагена» и «История Этрурии». Каждый из этих трудов будет прочитан от корки до корки сменяющими друг друга высококвалифицированными чтецами, первый — в старой библиотеке, второй — в новой. Они знали, что это не может мне не польстить. Принимая их почетные предложения, я чувствовал себя в точности, как чувствовали бы себя родители мертворожденных близнецов, если бы спустя какое-то время после родов маленькие холодные трупики, лежащие где-нибудь в углу в корзинке в ожидании похорон, вдруг неожиданно порозовели, чихнули и в один голос принялись реветь. В конце концов, я потратил на эти книги более двадцати лучших лет моей жизни, взял на себя нелегкий труд изучить различные языки, нужные мне, чтобы собрать и проверить факты; и, насколько мне было известно, ни один человек до сих пор не подумал их прочитать. Когда я говорю «ни один человек», я должен сделать два исключения. Ирод читал «Историю Карфагена» — Этрурия его не интересовала — и сказал, что очень много узнал из нее о характере финикийцев, но что, по его мнению, мало кто проявит к этой книге такой же интерес. «В этой колбасе слишком много мяса, — сказал он, — и недостаточно специй и чеснока». Он имел в виду, что там было слишком много сведений и недостаточно легкого чтения. Он говорил мне все это, когда я еще был частным лицом, так что тут и речи нет о лести. Единственной, кто кроме моих секретарей и помощников по изысканию прочитал обе книги, была Кальпурния. Она сказала, что предпочитает хорошую книгу плохой пьесе, мои исторические книги — многим хорошим пьесам, которые она видела, а книгу про этрусков — книге про Карфаген, потому что там говорится о знакомых ей местах. Да, чтобы не забыть: когда я сделался императором, я купил Кальпурнии прекрасную виллу возле Остии, дал ей приличное годовое содержание и штат хорошо обученных рабов. Но она никогда не приходила во дворец, и я тоже не посещал ее из страха вызвать ревность Мессалины. Жила она вместе с близкой подругой по имени Клеопатра, родом из Александрии, тоже в прошлом проституткой; но теперь, когда у Кальпурнии было более чем достаточно денег, обе они расстались с этой профессией. Они были спокойные девушки.
Читать дальше