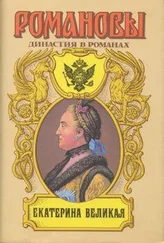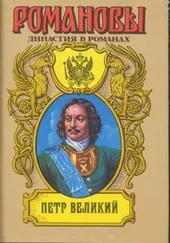В девять он вышел к утреннему чаю, но ничего, кроме двух-трёх глотков своего любимого «Earl Grey» от старинной английской фирмы «Twinings», так и не смог проглотить. Его мучила страшная головная боль, лицо было бледно и всё покрыто сеткой мелких морщин. Его любимая серая черкеска Кавказской казачьей дивизии с серебряными газырями и кинжалом в серебряной оправе на этот раз совершенно не шла ему. Никто из свитских не лез к нему с разговорами, да и между собой в этот день они не очень-то и общались за столом.
Около десяти камердинер Тетерятников доложил о приходе генерал-адъютанта Рузского. Государь сказал: «Проси!» – и вышел в кабинет. Он встретил генерала стоя, спокойно поздоровался с ним и предложил сесть к столу. Рузский замедленно, по-старчески, опустил своё тело в кресло и выложил на стол коленкоровый портфель с бумагами. Избегая смотреть Государю в глаза, он доложил, что с 3 часов 30 минут до 7 часов 30 минут утра вёл по аппарату Юза разговор с Родзянкой, который тут же дублировался по другому Юзу в Ставку, Алексееву.
– Хорошо, – бесстрастно ответил Николай.
Генерал выложил из портфеля длинную и тонкую белую ленту и подал её Государю. Николай сначала принялся читать внимательно, но, увидев ложь и несообразности, не замеченные самими участниками разговора, стал небрежно и быстро просматривать её.
«Родзянко явно лукавит, когда приводит три причины, воспрепятствовавшие ему приехать ко мне во Псков», – решил царь, читая о том, что якобы взбунтовался какой-то эшелон, который шёл с Северного фронта и решил не пропускать никого. Затем Председатель Думы утверждал, что его отъезд может вызвать нежелательные («Кому?!» – подумал Николай) последствия, а в конце концов хвастливо заявил, что ему невозможно покинуть взбунтовавшийся Петроград, так как «только ему верят, только его приказания исполняют…» («Эк хватил! Самовлюблённый боров…» – усмехнулся мысленно царь.)
Хитрый Рузский для царя и истории нарочно вёл разговор так, чтобы выглядеть в нём верноподданным и не болтаться на виселице в Могилёве вместе с другими заговорщиками, если царю удастся победить. Он не прерывал Родзянку, когда тот делал выпады против Государыни и царя, сообщал, с одной стороны, о братающихся с народом войсках, об анархии, собственном решении возглавить революцию и арестовать министров. С другой стороны, Председатель Думы, «которого все слушают и приказания исполняют», разыгрывал панику и утверждал, что чувствует себя на волоске от заточения в Петропавловскую крепость, куда он сам отправил министров…
Рузский сообщает на другой конец Юза, что Государь подписал Манифест, проект которого получен из Ставки, Родзянко требует его немедленно передать. Но, ещё не зная, какой это Манифест, начинает высказываться, что документ опоздал и никуда не годится…
Рузский не желает замечать противоречий – ему важно переложить всю ответственность за постановку коренного вопроса на собеседника, поэтому он провоцирует Председателя Думы, посылая ему невинную вроде бы фразу: «Что значат Ваши слова о том, «что династический вопрос поставлен ребром»?»
Председатель Думы упоён своей славой. Продолжая муссировать лживую легенду о сепаратном мире, который якобы хотят заключить царь и царица, которую он продолжает пропагандировать толпам, стекающимся к Таврическому дворцу, Родзянко нагло отвечает Рузскому: «Все решили довести войну до победного конца, но царь должен отречься…»
«Кто эти «все»?! – думает Государь. – Кто «грозно требует» отречения?.. Не те ли, кого Родзянко аморфно обозначает «кто агитирует против всего умеренного» и кого боится Председатель Думы, несмотря на то что «за ним весь гарнизон и весь народ и только ему верят и его слушаются», как он сам утверждает…»
«Манифест запоздал, его надо было издать после моей первой телеграммы 26 февраля…» – читает Николай на ленте слова Родзянки.
«Вот нахальная свинья! – с гневом думает царь, – По его дурацкой телеграмме я должен был сразу перевернуть весь порядок управления страной! Эта скотина забыла, что я после его депеши и из-за беспомощности, а может быть, и предательства военных властей в столице выехал в Петроград, чтобы убедиться сам, в чём дело, но по вине заговорщиков в Ставке и в Думе – какого-то мерзавца депутата Бубликова, передавшего воззвание Родзянки к железнодорожникам, так и не смог добраться до Царского Села…
Этот бывший кавалергард, носящий звание камергера моего Двора, вопит, что «время упущено, возврата нет», но кто в этом виноват, как не он сам! Конечно, для него «возврата нет» – он будет повешен, когда я подавлю мятеж… Поэтому-то он и требует отречения от престола, поскольку и у него, и у этой преступной говорильни Думы рыло в пуху… Это они спровоцировали беспорядки своими подстрекательскими и клеветническими речами… Как жаль, что Аликс и я отсоветовали старику Штюрмеру и Протопопову подать в суд на клеветников и оскорбителей – Милюкова и Керенского за их речи в Думе первого ноября! Надо было тогда воспользоваться острым моментом и покарать мерзавцев!.. Как только мне удастся успокоить бунт, то Родзянко, Милюков и Керенский первыми пойдут под военно-полевой суд!»
Читать дальше