— Я сам шейх!
Вот нелепость. Два перса, мужчина и женщина, оба мусульманской веры, говорящие на одном языке, подданные той же страны, не могут жить вместе, потому что он — с одной ветви одного и того же дерева, она — с другой. Шииты — суровый народ. Непременно зарежут — если не Омара, то Экдес.
— Сделай так, — посоветовал ему старик Хушанг, переговорив с дочерью. — Раз уж вы не в силах ни сойтись, ни разойтись: составь купчую, дай мне при свидетелях сколько-то денег и возьми Экдес как рабыню. Будто бы я продал ее тебе. Когда все уйдут, я верну те5е деньги…
И разговоры сразу прекратились. Ибо с рабыней, согласно мусульманскому праву, "мужчина волен удовлетворять свою страсть каким угодно образом, без ее согласия, ибо власть господина над нею — безгранична". Обычай соблюден. Велик аллах!
К сестре Омара, зеленоглазой Голе-Мохтар, посватался Мохамед аль-Багдади, способный математик, юноша скромный, толковый и дельный. Редкость по нашим временам. И Омар отдал сестру за него с легким сердцем.
Все идет как будто хорошо. Если и плохо кому при дворе, то Бурхани, "эмиру поэтов". Вот человек, которого ученый не может постичь. Смог бы, пожалуй, но ему недосуг вникать в извивы темной чужой души, неведомо отчего воспылавшей к Омару ненавистью. Нет охоты! Есть дела поважнее. Пусть Абдаллах, — человек он взрослый, гораздо старше Омара, — сам разбирается в своих чувствах и побуждениях. Что до них Омару? Ведь он-то и пальцем не шевельнул с целью досадить Бурхани!
Глубоко искушенный в тонкостях алгебры и других точных наук, Омар по-детски наивен в делах житейских, в быту. Его разум просто не замечает, а если и замечает, то не воспринимает пустяковую возню окружающих. Это у разума способ самозащиты: иначе его собьют с пути и увлекут в трясину повседневных мелочей.
Бурхани совсем зачах, несчастный. Он даже утратил способность к стихосложению и больше никогда уж не выдаст что-либо подобное его знаменитому бейту:
Рустам из Мазандерана едет,
Зейн Мульк из Исфахана едет… "Давно хворает, худо ест, худо спит, — говорили его домочадцы визирю. — Пристрастился было к хашишу, но и тот не принес ему пользы". Одно утешение осталось Абдаллаху: разбирать построчно стихи Омара Хайяма и ядовито поносить их за сложность, заумность и грубость.
— Как, как? — изводил он десятилетнего сына, не отпуская его от себя ни днем, ни ночью. — Повтори.
Мальчуган, лобастый и бледный, с тонкой шеей, бубнил устало и тупо, одеревенелым голосом:
Что мне блаженства райские "потом"?
Прошу сейчас, наличными, вином… — Проклятый пьянчуга, безбожник! — бушевал Абдаллах. — Пройдоха! Что дальше?
Внезапно вошедший Омар закончил за мальчугана:
В кредит — не верю! И на что мне слава —
Под самым ухом барабанный гром? Его заставил заглянуть к больному визирь. "Может, сумеешь помочь". И зря он это сделал! Увидев недруга, Абдаллах вскочил, скорчил приветливо-злобную улыбку:
— Изыдь, шайтан. Добро пожаловать! Изыдь… — упал, захрипел — и умер.
***
Между тем в сельджукской державе, как селевые воды в горах, назревали, исподволь, подспудно копясь, крутые события, которые, в конечном счете, обрушились — на кого же, как не на беднягу Омара Хайяма, ни в коей мере, как ему казалось, не причастного к борьбе султанов и ханов за власть.
Визирь явился к нему озабоченный.
— Из Самарканда, — показал распечатанный свиток. — Тебе тут приветы и добрые пожелания. От судьи Абу-Тахира Алака, твоего старого друга.
Рад Омар:
— Жив, здоров?
Пожалуй, нигде ему не жилось так спокойно, отрадно, как в Самарканде. Это невероятная, прямо-таки ахинейская удача, что среди тех, кто обладает хоть маленькой властью, попадаются, пусть не так уж часто, не совсем уж злые и глупые люди.
Впрочем, никакой в мире судья не помог бы тебе, Омар, если б ты ничего не умел, был всего лишь бедным просителем. Никакой! На порог бы тебя не пустили. Так что не очень-то умиляйся. За поддержку — спасибо, конечно. Но всем на свете, Омар, ты обязан самому себе.
— Он-то жив и здоров… но хан Ахмед, новый правитель караханидский, видно, вовсе тронулся умом. Перенес столицу в Самарканд, возмутил тихий степенный город. Восстановил против себя духовенство и тюркских военачальников. Норовит, злодей, отторгнуть Заречье от нашей державы. Будто врозь ему будет лучше. Не понимает, пес, что его тотчас же сожрет какой-нибудь новый хакан, волк из восточных степей. Не понимает! — Визирь скомкал свиток, потряс им, шурша, над головою. Сел. Швырнул письмо на ковер, положил руки на колени. — Я день и ночь пекусь о государстве. Хочу его укрепить. Навести хоть какой-то порядок в хозяйстве, в денежных делах. Уберечь князей от злобной черни, а чернь — от жадных князей. Угодить и тебе, математику, и Газали — богослову. Чтоб мир и покой наступили в нашей стране.
Читать дальше


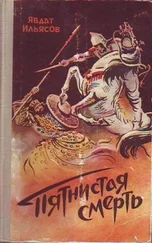





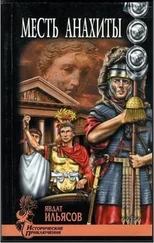

![Явдат Ильясов - Исторические романы и повести [Книги 1-9]](/books/415171/yavdat-ilyasov-istoricheskie-romany-i-povesti-knigi-1-9-thumb.webp)
