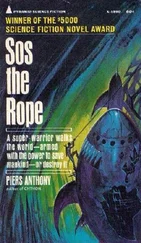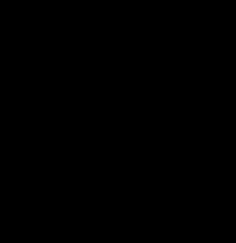Геннадий Падаманс
Верёвка
«Свет и тьма, жизнь и смерть,
правое и левое — братья друг ругу.
Их нельзя отделить друг от друга.
Поэтому и хорошие — не хороши,
и плохие — не плохи, и жизнь — не жизнь, и
смерть — не смерть. Поэтому каждый
будет разорван в своей основе от начала.
Но те, кто выше мира, — неразорванные,
вечные».
Евангелие от Филиппа, 10.
Верёвка пахла рыбой. Странный запах что-то стремился поведать — но его думы уже затворились и куда-то ушли. В голове осталась лишь память.
Детство было счастливым. Мать Саломея, отец Симон. Он их помнит так хорошо, будто они где-то рядом, в этой хибаре, или там, за щелями, среди саксаулов.
Мать… Он был первенец и любимец. Тёплые руки, ласковые глаза, мягкие губы. Полная грудь. Все человеки, наверное, помнят одно — и все человеки столь розные.
Пустыня. За их домом пласталась пустыня, как за этой хибарой, за этими стенами, как повсюду. Пустыня, ночь, водянистые звёзды, лай собаки, скрип двери… Крик. Его крик. И тёплые руки, мягкие губы, полная грудь. И слёзы. Как сейчас. Как всегда. Пустыня. И он. Он, который так мно-го знает, который видел Элладу и Рим. И ещё Вифлеем, город Давидов…
Сказано у эллинов: Тот, кто стал свободным из-за знания, из- за любви раб тех… А Чудак говорил по-иному: «Сберёгший жизнь свою, по-теряет её, а потерявший жизнь ради Меня — сбережёт её». Он сбережёт верёвку, которая пахнет рыбой.
Он обожал Вифлеемский ручей и любил ходить за водой. Вода бурно неслась, грохотала и пенилась, обдавала прохладой. Он всегда долго плескался и потом отдыхал под приветливой пальмой, и приходил домой поздно, мать бранила его, а отец один раз даже ударил, но мать заступилась, оборонила; он плакал — как и сейчас. Он не хочет помнить проклятый Вифлеем, он родился в Кириафе, среди пустыни, среди саксаулов — как здесь…
Верёвка пахнет рыбой… Почему они перебрались в Вифлеем, осталось неведомым. Он был мал, а теперь никогда не узнает. Вифлеем казался прелестным: с гор тёк ручей, колосились хлеба, благоухали сады, плодоносили пальмы… А тут саксаулы, бестолковые, как и всё окрест.
Вифлеем… Потом появился брат, его маленький брат в маленькой колыбельке, от которой мать, кажись, никогда не отходила, и он даже гневался… А потом пришли эти. Все в меди: в броне, в блестящих шлемах с огромными гребнями, и с мечами в хищных руках.
Дверь лачуги скрипит. Снялся ветер, с востожа, повеяло зноем и пылью. Утро будет по-летнему раскалённым. Он любил лето, любил прыгать в прохладный шумный ручей, любил забираться в сады и подбирать полновесные смоквы, рвать гранаты, любил виноград…
Крик гиены. Хриплый, давящийся. Совсем рядом. Наверное, Диавол уже подбирается, — он смеётся, хрипловато смеётся, он тоже гиена, они теперь братья. Во веки веков.
Кислый запах саксаулов, хохот гиены. Его хохот. Гремучая смесь.
Песок на губах. Верёвка в руках. Пустыня за ветхой стеной. Жизнь в голове. Никудышная жизнь. Сладкое детство. Потом Вифлеем.
Надрывно хохочет гиена, ветер сыплет сквозь щели песком, хочет заживо погрести. Он бы тоже не прочь погрести свою память — да тщетно.
Они пришли так внезапно. В сверкающей меди, с мечами. Он не успел испугаться. Всё было так быстро. Один только нагнулся к колыбельке — и сразу крик матери. Так не может крикнуть сотня гиен. Так не может никто. Ни один. Ни одна.
Отец не кричал. Отец был бледный, как зимняя луна, стоял напротив него, в другом углу; но он видел мать. Мать кричала. Он помнит. Ослепительно белая грудь, чёрные пупырышки сосцов. «Умертвите, безбожники! Умертвите!» Плевок. Удар рукоятью меча в правую грудь, тёмная кровь, темнее сосцов. Безумие страха. Один манит его: «Ну, поганец, сюда! Получишь и ты на орешки. Иди…» Оцепенение. Хохот. Бледный отец. Хохот кругом, сотрясает его, душит, мутит рассудок, кружит голову, выворачивает наизнанку… Нет, он не верует. Не может быть Бога. Может быть Диавол, вполне, он даже помнит лицо, ом смог бы узнать…
Хохот. На пару с гиеной. Хохот в его голове. В самом нутре.
Мать вскоре умерла… Сохла, сохла и умерла. Было жутко… Отец пропил дом и участок земли недалеко от ручья, в котором он так любил купаться. Отец стал его бить. Он ушёл.
Его приютили добрые люди. Учили грамоте, наставляли в молитвах, вразумляли про грех. Он не мог им простить, его мать не имела греха, никогда не имела! Он немного подрос и снова ушёл одним светлым утром, закинув на плечи лёгкую котомку. Скитался как щепка по бурному морю, обошёл пол-Ойкумены, был продан в рабство, бежал, сражался за кесаря Августа, изучал мудрость эллинов, плавал по морю. Всё он видел, всё знал. Вернулся домой. В пустыню о гиенами и саксаулами.
Читать дальше