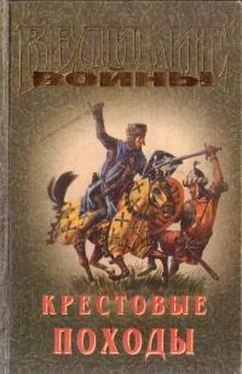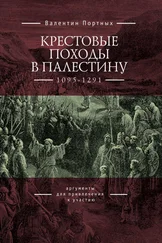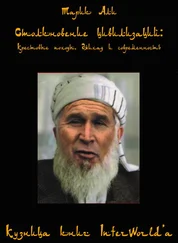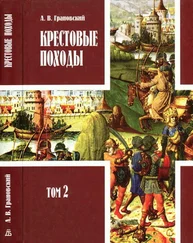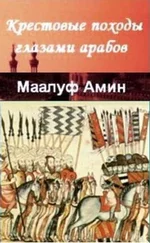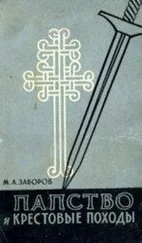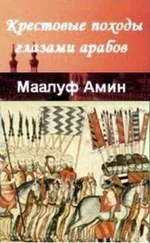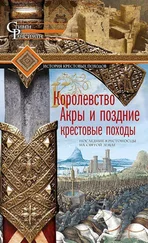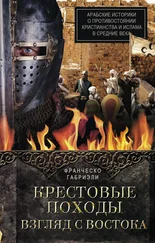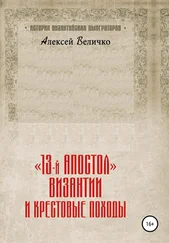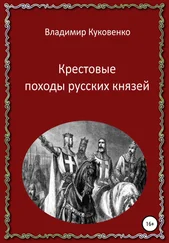Несмотря на поражение, папы по-прежнему продолжали призывать европейских государей к новым походам, но хотя некоторые из них и приняли крест, ни один поход в той форме, как раньше, не состоялся.
Последние попытки остававшихся на Ближнем Востоке христиан отражать атаки мусульманского мира были тщетны. Постепенно они теряли жалкие остатки своих владений: в 1268 году была взята Антиохия, в 1289 — Триполи, в 1291 году пала последняя опора крестоносцев на Востоке — Акра. Иногда историки, говоря об этих событиях, называют их Девятым крестовым походом. Вряд ли у нас есть основания так думать: эпоха крестовых походов завершилась для христианского мира тихо и безотрадно.
Результаты этого поистине колоссального движения были, несмотря на потерянные в конце концов земли, весьма значительны и разнообразны. Так, например, крестовые походы познакомили Европу с техникой и культурой арабов. Европейские учёные значительно обогатили свои знания в области математики, геометрии, астрономии, химии, географии. Через арабские переводы в культуру Западной Европы вошли неизвестные до той поры произведения Аристотеля, других выдающихся мыслителей. Европейцы позаимствовали с Востока многие сельскохозяйственные культуры — гречиху, рис, арбузы, абрикосы, лимоны, фисташки, начали употреблять сахар, добывавшийся из сахарного тростника. В быт жителей Европы проникли такие обычаи, как мытье в банях, омовение рук перед едой и т.п. Европейская литература обогатилась новыми сюжетами, заимствованными из прозы и поэзии мусульманского Востока.
Эпохе западноевропейского средневековья (в том числе и крестовым походам) до сих пор не очень везло в отечественной романистике. Исторически сложилось так, что русских писателей больше привлекали сюжеты, связанные либо с Византией, либо с более поздними в хронологическом плане сюжетами (эпоха Возрождения, повести Ал. Алтаева). В представлении подавляющего большинства читателей исторических романов это время (по школьным воспоминаниям) представляет из себя либо нечто “тёмное” и “зверское”, и ни на какие мысли, кроме инквизиции да разве что готических соборов, не наводит, либо же рисуется как нечто авантюрно-романтическое и вместе с тем натуралистическое (как правило, последнее представление формируется под влиянием голливудских “исторических” костюмных фильмов). Истина, как всегда, находится посредине. Средние века, как и любое другое время, были полны разной, яркой жизни и жестокостью своей не особо отличались от всех остальных (прошлых и будущих) эпох человеческой истории. И будет очень хорошо, если знакомство с этими временами через призму исторической романистики, не подминающей полностью реальность под ту или иную литературную концепцию автора (как, например, в романах В. Скотта), пробудит у читателя интерес к этому своеобразному, но исключительно интересному периоду человеческой истории.
Роман Г. Прашкевича “Пёс Господень” открывает перед читателем широкую панораму событий, относящихся исторически как раз ко времени Третьего и Четвёртого крестовых походов. Обычно исторические романы пишутся, как правило, для того, чтобы в увлекательной форме подумать над вечными вопросами человеческого бытия, ибо писать точный, “документальный” роман, в котором бы автор в точности воссоздал характеры и психологию действующих лиц, вряд ли возможно. Этому мешает не только “современность” его взглядов и миросозерцания. “Документальный” роман может превратиться в вялое и достаточно скучное изложение исторических реалий, которые любознательный читатель легко может отыскать в любой популярной книжке по описываемому периоду. Даже гениальный роман Умберто Эко “Имя розы”, несмотря на всю свою “учёность”, связан с вечными проблемами человеческого бытия и человеческих отношений. Г. Прашкевичу удалось создать произведение, сочетающее в себе и увлекательность повествования, и документальную точность. Очевидно, что автор глубоко изучил литературу времён крестовых походов, особенно произведения Робера де Клари и Жоффруа Виллардуэна, отрывки из которых органично вплетены в ткань повествования, и песни времён крестовых походов, предлагаемые им в качестве дополнения к соответствующим местам романа. Безусловно, на него оказал влияние и вышеупомянутый роман У. Эко, под воздействием которого явно написана сцена допроса Амансульты. Роман вобрал в себя материал всех основных моментов бурной истории Западной Европы конца XII века — и войны с катарами на юге Франции, и сами походы, и поиски в области веры и науки, предвосхитившие взлёт духовной культуры в XIII веке. Есть здесь и нищенствующие, и военно-монашеские ордены, и инквизиция, и т.д. Интересна (хотя и традиционна) и сама форма — связь с якобы найденной рукописью. Конечно, не все образы строго документальны. Так, например, образ главной героини, находящейся в поисках Истины, возможно, сочетает в себе черты дочери остготского короля Теодориха Амаласунты, о чём свидетельствует и её имя. Вряд ли барон Теодульф мог называть еретиков южной Франции “тряпичниками” (патариями, патаренами), поскольку так звали их в северной Италии, ибо местные катары собирались в квартале ткачей в Милане. Говоря о ведьмах, автор переносит на конец XII века представления о чернокнижии, сформировавшиеся в XV—XVI веках, ибо до Фомы Аквинского общество и государство ещё не рассматривало занятия колдовством как религиозное преступление и практически не подвергало ведьм преследованиям; не были бедными в 1202 году и рыцари-тамплиеры, обладавшие значительными богатствами в Европе и носившие, кстати, белые плащи с красным крестом (а не просто белые) и т.д. Однако эти неточности нисколько не умаляют всех достоинств романа, доставляющего любознательному читателю неизмеримое наслаждение и погружающего в бурную атмосферу живого, а отнюдь не “мрачного” и непонятного Средневековья, раскрывая перед ним захватывающие, полные поистине титанических страстей страницы истории Европы эпохи крестовых походов.
Читать дальше