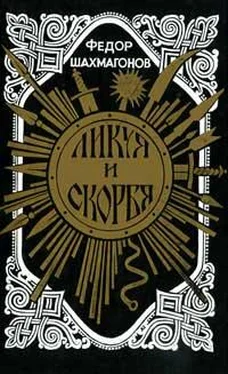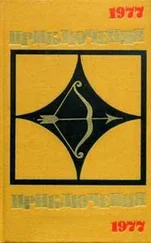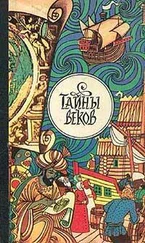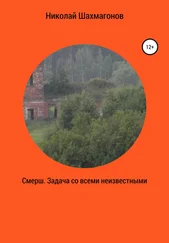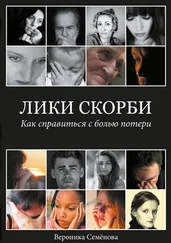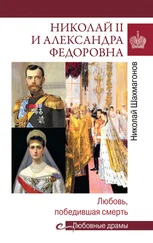Затрубили трубы.
На холм к шатру Дмитрия принесли Дмитрия Монастырева и рязанского боярина Назара Кучакова. Кем был Монастырев для русского воинства, то ведали князь Дмитрий и Боброк. Омрачила эта смерть воинскую победу. Дмитрий опустился на колени и молвил:
— Записать навечно в поминание Дмитрия Монастырева, князя русского, и рязанского боярина Назара Кучакова. Поминать их во всех русских церквах!
Первым заговорил Андрей Ольгердович.
— Видел я, брат мой старейший, много битв... Бился с немецкими рыцарями, ходил на Орду, водил полки с отцом. Скажу, закатилась звезда Орды! С твоим войском готов идти в любые страны, нет силы, способной его остановить, как не было силы, что могла бы остановить войско Александра Македонского.
— Слова твои, брат мой Андрей, радуют мое сердце,— ответил Дмитрий.— Я никуда не собираюсь вести это войско. Создано оно лишениями и смертным трудом, дабы отстоять родную землю. Не для завоеваний оно создано, а оберечь труд наш, землю нашу, детей наших, чтоб не погасла свеча и не пресекся род русский.
С полночи налегла над Окой непроглядная могла, гасила костры, сверкали они в двух шагах желтенькими светлячками.
Туман поредел к полудню. Боброк перевел через Вожу стрелков и раскинул их на холмах. Известна повадка Орды заманивать противника в глубину степи. Осторожничал.
Разъезды пронизали весь путь от Вожи до Переяславля. Возвестили: Переяславль цел стоит, ордынцев не видно, бродят на лугах ордынские табуны, стоят ордынские вежи, забита ими вся дорога.
Боброк пустил в догон конных. Игнат с тремя сотнями стрелков, с людом своим, с приказчиками, с писцами подошел к ордынским вежам. Табунщики ловили на лугах ордынских коней, писцы и приказчики исчисляли захваченное в вежах.
Богаты вежи оружием: копьями, стрелами с калеными наконечниками. Кольчуги, шеломы, кривые ордынские сабли — все брал на учет Игнат. На возу у Бегичевых веж Игнат обнаружил хилого попика с редкой, россоховатой бородкой. Он выбежал навстречу стрелкам, осенняя их крестным знамением, осыпая проклятиями ордынцев, вознося благодарственные гласы к небу.
— А ты как попал в ордынские вежи? — спросил попика Игнат.
Очень сомнительной показалась ему радость этого темного человечка с козлиными ухватками и с лукавыми серыми глазами.
— Вез меня князь ордынский ставить в Москве митрополитом. Рад несказанно, что погнали вы нечестивых!
Могло быть и так. Игнат приказал стрелкам обыскать попика, вывернуть все потаенности в одежде, весь скарб на возу. Мог тот попик везти переметные письма к московским переметчикам. Писем не нашли, нашли ладанку на груди с неизвестным зельем.
Был бы то не попик, а знахарь, не удивился бы Игнат, а попу какая нужда в знахарском зелье? Зелье составлено из трав. Знал огородник многие травы и эти угадал. Отвар из таких трав убивал человека не враз, а с задержкой в два, три дня, и не было от него противоядия. Попик начал было уверять, что это зелье от ломоты в костях. Игнат предложил ему угоститься зельем, попик взмолился и поклялся, что все расскажет князю.
Поведал попик Дмитрию, что шел он на Москву угостить отваром князя московского, ежели живым уйдет из битвы; ежели не уйдет живым, угостить тем отваром сыновей князя Дмитрия, чтобы и корень его извести на веки веков. А послан он боярином московским Иваном Васильевичем Вельяминовым, что сидит в совете у Мамая и ждет, когда Мамай пойдет воевать Русь. Дмитрий повелел до времени заточить расстригу в монастырь и крепко стеречь.
Москва встретила весть о победе колокольным звоном, откликнулись колокола в Боровске, загудели колокола на Софии новгородской, отслужил благодарственный молебен Сергий в Троице, перекликались радостно колокола Владимира, Суздали и Новгорода Нижнего.
Из Новгорода князь Владимир Андреевич привез с собой по просьбе супруги Елены зело искусного иконописца Феофана Гречина, сманенного из Царьграда новгородской Господой расписывать их храмы. Из Троицы в Боровск приехал отец Сергий крестить сына Владимира и Елены. С ним был послушник Андрей, сын Игната Огородника. Зазвала в Боровск княгиня искусника иконописца Прохора с Городца.
Княгиня Елена, гордая литовка, говорила Сергию, что призвала искусных мастеров и хочет, чтобы Боровск светился в веках делом их рук.
— Не приемлю Христа-мученика, вижу бога русского великим и могучим.
Радостны были эти слова Сергию, отвечали они его давним мыслям.
Читать дальше