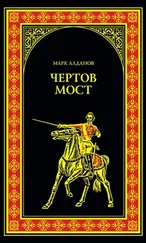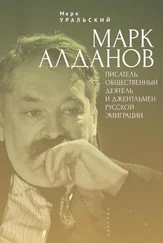Накануне казни он заснул именно на таких мыслях. Распоряжавшиеся казнью люди разбудили его; на их лицах было заметно лестное для него удивление. Он тотчас надел на себя ту же равнодушно-презрительную усмешку. Сказал что-то подобающее, – кажется, «видно, спать уже больше никогда не придется», – и почувствовал, что душевных сил хватит: все в нем было точно зажато стальным винтом, он теперь принадлежал тому самому сказочнику, о котором накануне размышлял с совершенным пренебрежением. Когда их вывели на улицу, подумал, что теперь следовало бы обратиться к другому, – ну, хоть поднять глаза к небу, – как обычно живописцы рисуют осужденных или гибнущих людей. Он действительно взглянул на небо. Две тучи медленно плыли одна навстречу другой. – «Еще могу увидеть, как сольются»… Но ему неинтересны были ни тучи, ни небо, – чувствовал, что на этот высокий лад душу настроить никак не может даже в подобную минуту. Вся его воля была направлена на то, чтобы равнодушная улыбка не стерлась, чтобы походка осталась гордой (шел не так, как всегда), чтобы никто не мог догадаться, как страшно бьется его сердце. И это ему удавалось: винт действовал безупречно.
На перекрестке глашатай зазывал народ, читая заунывно по листку: «Понеже некоторым людям за важные и противу государственного покоя учиненные вины, сего января 18 числа по полуночи в девятом часу, на Васильевском острову, против коллегий, чинена будет экзекуция, того ради через сие объявляется во всенародное известие, чтобы всякого чина люди о сем ведали и для смотрения означенного числа, в том часу, приходили на оное место», – впоследствии ему в крепость прислали этот листок, он сохранил его и в Пелыме перечитывал не без удовольствия. Тогда, разумеется, всего не слышал, но какой-то обрывок задержался в сознании, – еще подумал, что «всякого чина людям» все равно, улыбается ли он или нет, никто из них этого не сохранит в памяти, не расскажет внукам и не запишет: они даже не знают, кто преступники, и за что казнят, но верят, что это преступники, – иначе не казнили бы, – и, главное, не желают упустить зрелища. Сказочник ничего не узнает, – стоит ли равнодушно-презрительно улыбаться? Думал это и продолжал поддерживать презрительную улыбку. Опять равнодушно взглянул на небо: нет, тучи еще не слились. В эту минуту он увидел эшафот. «Зачем же над ним балдахин?» – спросил он себя, думая и теперь с той же улыбкой.
Загремели барабаны, от их привычного боевого грохота стало легче, – хоть только глупый человек мог сравнивать мужество солдата в бою с мужеством человека, готовящегося к страшной казни. Он внимательно оглядел палачей – «ну, что же сейчас? С кого начнут?» К эшафоту медленно подъехали сани («вот где стояли, а эшафот был здесь»…). Солдаты и палачи подняли из саней старичка. «Да, ведь Остерман и тут ухитрился заболеть », – подумал он с улыбкой, теперь почти настоящей. Хотя он терпеть не мог Остермана, с удивлением признал, что старый министр, всегда заболевавший в трудных случаях жизни, теперь ведет себя тоже очень достойно и своим куражем сделал бы честь воину. Подумал, что, пожалуй, для сказочника было бы удобнее, если б все другие проявили малодушие, – но не принял этой мысли: нет, так лучше. Подумал еще, что на Остермане Та же лисья шуба и бархатная шапочка, которые он всегда носил дома, опасаясь простуды, – «вот и тут может простудиться»… Барабан замолк. Настала мертвая тишина. Мелькнуло искаженное ужасом лицо извозчика: палачи как раз выносили Остермана из саней, – этого извозчика признал бы и теперь через двадцать лет. Подумал, что у старика сбился парик: снимет ли парик палач? как казнят, в парике или без парика? Скользнула еще мысль, что хоть тут следовало бы установить человеческое отношение к Остерману, с которым прошло столько лет жизни, – но он почувствовал, что не может этого сделать. И еще равнодушно отметил в сознании, что палач неловко положил голову Остермана на плаху – на бок, видно лицо, – и что Остерман оброс бородой, тогда как сам он успел побриться… Сделал еще усилие, вслушался в то, что, пришепетывая, читал секретарь, и поразился нелепости обвинения: царевну хотели выдать замуж за убогого, худородного принца, – как глупо! Чтение прекратилось, – значит, сейчас! – взглянул на небо, – тучки слились, кончилась жизнь! – глубоко вдохнул и выдохнул воздух и последним усилием еще туже завинтил винт …
Секретарь помолчал с полминуты, затем снова начал читать. В толпе поднялся гул. «Вот тебе на!» – наивно-удивленно сказал рядом с ним кто-то из стражи. Палач, державший Остермана, отпустил его. Миних понял не сразу. «…Бог и государыня даруют тебе жизнь», – читал тот же гнусавый голос, видимо, старавшийся – не очень удачно – изобразить некоторое волнение: секретарю были одинаково привычны и приговоры, и помилования: «Если ему, то и мне!» – подумал Миних. Сердце застучало так, словно еще минута и разорвется. – «А может, только ему». Секретарь встретился с ним взглядом, и Миних понял, что спасен, хоть гнусавый человек тотчас отвел глаза, быть может найдя страшными его лицо и улыбку. «Только ли Остерману или всем?!.» Думал, что не доживет, что сердце не выдержит и разорвется, слушал, затаив дыхание, но винт делал свое дело, и на лице его висела та же равнодушная улыбка.
Читать дальше