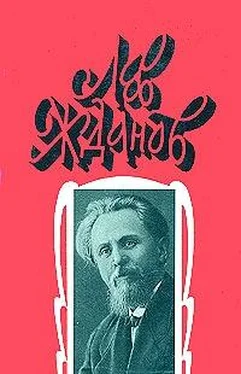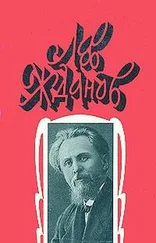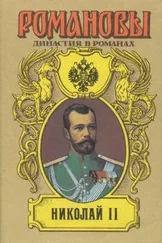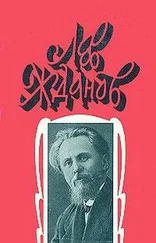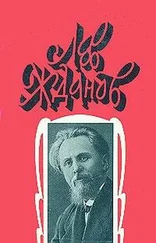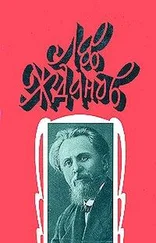Тихо, протяжно закончил свою песню Задор и смолк. Колыхать продолжает красавицу, а та лежит, закрыв глаза, довольная, замирая от тихого восторга и блаженства.
И вдруг поднялась, сорвалась с его колен, отодвинулась с нахмуренными бровями, бледная, словно боль нестерпимая пронизала ее всю.
— Ты тоже ловок глаза отводить! С чево начал, куды привел! О бабах речь шла. Как это можешь ты? Таковы слова улестливые мне говоришь… а сам же не отпираешься, што на всяку поневу готов накинуться, коли под руку попала. И меня так же, «словно шелуху орехову» — метнешь, коли надоем… Диавол ты лукавый, нечистый сам, а не человек! Вот ты хто! Меня, девушку, смутил! Стыд позабыть заставил. Жалеть меня станешь ли?! Иная подвернется — и плюнешь! А я… Нет! Не бывать тому. Лучше ж сама я от тебя отстану! И уйди, слышь… И не ходи, не мути души… Слышь? Не то… сама не знаю, што над собою поделаю. Вот поёшь ты… Я бы, кажись, и померла тут, у тебя на руках… А как подумаю, скольким ты свои песни напевал колдовские. А потом покидал… И што меня покинешь! Так вот и удушила бы тебя… алибо ножом… сюда, по горлу по твоему, по языку лукавому… по лицу поганому!.. А глаза бы… их бы так и вырвала, собакам бросила. Штобы не глядели, души не холодили, сердца бы не колдовали девичьи!.. Уйди, ненавистный… постылый… Кобель ты, не парень! Вот!..
— Ишь, расходилась! — с доброй полуулыбкой, словно ребенку, заговорил Задор, когда смолкла, тяжело дыша, девушка. — Убить меня охота?.. Изрезать, глаза изодрать? Ин, добро! Бери, режь!
Нож, лежащий постоянно в голенище у Задора, сверкнул в полутьме.
Боязливо попятилась к стене девушка, упала в подушку лицом и не то зарыдала, не то завыла от злобы и страсти, от налета безотчетной ревности.
— То-то! На словах вы, бабы да девки, куды ретивы! А к делу взять — и реветь только можете!.. Ну, нишкни. Батько услышит, придет. Неладно выйдет… Э-э-эх, девонька! Жалкая ваша доля. Што вам Бог дает, то вам мало. Чево сами хотите взять — руки у вас коротки. Кабы и Богом был, не создал бы я вас на такую маяту… Да гляди, и много бы иначе сделал!.. Ну, буде! Слушай… Скажу тебе ошшо словечко. Какова никому не сказывал… Жалеешь ты меня, вижу, так, што себя не помнишь… Мил я тебе пуще всего на свете! Ровно Бог для тебя. А так не надо! Слышь! Ты оглянися: как кругом-то все хорошо! Вот ночь, зима. А выйдем со мною, пойдем туды, за реку. Небо горит звездами. От месяца снег загорается. Даль словно зовет тебя. Вой волчий слышен, псы лают, словно о чем тебе сказать хотят, да не могут!.. И в душе так станет сладко, легко на сердце. Тут и меня, и все забудешь. Алибо в лес пойдем… Там сосны, ровно столпы в соборе московском в Успенском, стоят… И сами ангелы службу служат в том храме Творцу земли и неба. И самой молиться захочется. А уж по весне либо летом пойдем в степь да в горы высокие. Либо по реке по быстрой в душегубке поплывем. Небо над головою светлое, солнышко светит да греет, птицы поют, звери на водопой сбегаются. Травы пахнут слаще ладану. Цветы лазоревы по траве раскинуты. Господи! Неужто и тут о парне каком либо парню о девке вспоминать захочется!.. Дышешь да полететь готов от веселья, от шири земной, от красы той несказанной… Я, девушка, ежли и помню часочки отрадные, так провел их в пустыне-матушке, на лоне сырой земли-кормилицы… И ты попытай… Может, и твоя душа того просит, што моя всегда просила… Воли да красы земной… А ласки наши?.. И они хороши ко времени. Ты молода еще. Тебе в новинку. Вот и яришься, и ремствуешь! А потом все надоест, примелькается. Может, тогда и вспомянешь слова мои.
— Мели, мели… с пути сбил меня… А теперя про пустыню заводишь речи! Шайтан!
— С пути сбил? Врешь, девка! Нешто я бы тронул тебя, кабы не подглядел, как очи твои загораются, чуть я в их гляну? Душегуб я, бродяга, вольная душа… Да не зверь! Не чуял бы я, што саму тебя несет ко мне навстречу, как пичужку малую во родное гнездышко…
— Молчи, молчи, лукавый…
— Ну, ин ладно… Помолись, окстись — лукавый-то и отстанет…
— Молилась… не помогает! Обошел ты меня, диавол. Погибла душа моя!..
— Врешь, девка!.. Душа не гибнет людская от того, что любит она… Ну, добро… Давай разом помолимся… в таку пору ночную, тихую, я, хоша и душегуб, и диавалу слуга, а охоч молиться. Ежели душу перед Благим раскрыть, не хуже станет, чем на раздолье степном. Ровно годы и беды с себя стряхнешь, малым пареньком сызнова станешь… Молитва — велико дело, коли с верою. А я верю! И ты веришь, Гашенька. Давай же молиться!..
Первый скользнул он к образам в углу, осенил истовым, широким крестом свою грудь обнаженную и зашептал какие-то слова, не то молитву заученную, не то слагал сам жаркие призывы, обращенные к Божеству.
Читать дальше