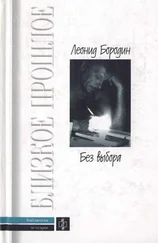Но всяким силам и напряжению всякому предел есть. Ноги подкашиваются, глаза смыкаются, и уже не различить — то ли люди вокруг, то ли духи сна… Добирается Олуфьев до крыльца избы Марининой, там, на крыльце, в стороне от двери пристраивается бочком и, сабли под боком не чувствуя, не падает — возносится в выси райские, где ни тревог, ни радостей, но лишь покой непорушимый…
И снова Тихон, подлец, трясет его за плечи по-хамски, рука к сабле тянется, да занемела, пальцев не разогнуть.
— Измена! Измена! — стонет в ухо казак и будто выламывает и без того больное плечо.
С трудом распрямляется Олуфьев, садится, спустив ноги на ступень.
— Измена, боярин! — шепчет Никита. — Атаман Тереня со своими людьми на Индер-гору ушел, порох унес и провиант. Илейка, слышишь, казаков мутит, повязать царицу с царевичем подбивает! Бежать надо, боярин! Успеем еще схорониться.
— Не успеем, — отвечает Олуфьев, слыша из темноты вырастающий гул, и не досадует уже, а лишь усмехается горько, что самого простого недодумал: бежать Тереня собирался. Для того и людей раньше послал на Соляную гору, чтоб тыл себе сготовить. Да только что раньше, что позже…
Олуфьев гонит Тихона в дом тревогу орать, сам на крыльце встает в рост, саблю из ножен вынимает, силу в себе чувствует не злую — добрую: за сколько лет первое чистое дело предстоит, святое дело, готов к нему! В доме крики, вопли бабьи, топот… А впереди в темноте один за одним и пачками сразу факелы вспыхивают и не мечутся в панике и бестолковщине, но возносятся и замирают рядами, и гомона недавнего нет уже, но только команды и отклики. Вот колыхнулись факелы и поплыли дерганым строем, поначалу непонятно, приближаются или удаляются. За спиной с удара распахивается дверь, чуть не сметая Олуфьева с крыльца. Заруцкий в исподнем, с пистолями в руках, донцы с саблями наголо да Тихон с саблей и пистолем. И еще кто-то топчется в двери — Марина конечно, пистоль в руке. Заруцкий грубо отталкивает ее, захлопывает дверь. Факелы обретают голос взревевшей толпы. Сперва тени видны, вот они уже плоти, еще миг — и лица — в отблесках факелов криворотые, кривоносые, безглазые, с разверстыми темными пастями, один хрип звериный оттуда. В десяти шагах от крыльца как на стену натыкается рвань бунтующая и мгновенно немеет.
— А ну подать огня! — требует Заруцкий громовым голосом. — Подать, говорю!
Один из передних, в шапке до бровей, приближается на пять шагов, кидает факел и отпрыгивает назад. Олуфьев ловит факел, возносит над Заруцким. Знать, хорош атаман, если толпа с тихим ахом отшатывается и замирает в молчании.
— На какое доброе дело изготовились, казачки? Видать, срочное это дело, коли без роздыху от дневной сечи за сабли взялись! А ко мне ? За советом или для разговору пришли?
— Для разговору, Иван Мартыныч! — Это Илейка Боров. А рядом с ним Томило Суровский с перевязанной головой и атаман черкас Неупокойко. Видит в первых и вторых рядах Олуфьев вперемежку донцов, волжан, запорожцев — все заодно. — Пошто бумагу воеводскую утаил от круга? В бумаге той, знаем, сказано было, что войско посуху идет на Яик. Могли в верховья уйти и людей сберечь. Вы же с Тереней сговорились на обман, сечу ненужную навязали, казаков погубили, а Тереня теперь убег с порохом…
Заруцкий хохочет зло, рожа Илейкина перекашивается пакостно.
— Не вы ль, молодцы-атаманы, под Тереневу руку ушли на Болде? Не вы ль добром на Яик попятились, на посулы Терени поддавшись? Нынче, чай, уже б на Дону были или в Казани. А как Тереня вас побросал, по моему хребту в рай забраться намерились, сучьи дети!
— Не поносил бы ты нас, Иван Мартыныч! — рычит Томило Суровский. — Нам твой хребет без надобности…
Олуфьев дергает факел на себя, на ступеньку спускается. Говорит негромко:
— Господа атаманы, господа казаки! Люди вы все Опытные. Кто в северных, кто в западных землях побывал. Слышал ли кто из вас, чтоб где-то люди ратные живота себе добывали, врагу сдав воевод своих да начальников? Ни у татарвы, ни в басурманских краях о таком позоре не слыхано. За одними только ватагами казачьими сей постыдный для ратного человека грех числился. Неужто честь казачья ничего не стоит?…
— Замолчь, боярин! — орет Илейка. — Тебе чего терять? Ты для панов московских мерзей пса паршивого, на колесе искривят, на колу выпрямят. А мы самозванством обманутые, пошто нам губиться без проку, мы еще и Романову исправно послужить можем…
— Ты! — дико рычит Заруцкий, отталкивая Олуфьева в сторону, с крыльца сбегая и подступая к Илейке Борову. — Это ты пес паршивый, вошь подгузная! Раздавлю!
Читать дальше